|
You Are Not Alone: Michael, Through a Brother's Eyes
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:06 | Сообщение # 1 |

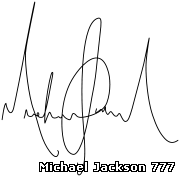
Новосибирск
|
Release date: September 13, 2011
Jermaine Jackson—older than Michael by four years—offers a keenly observed memoir tracing his brother’s life starting from their shared childhood and extending through the Jackson 5 years, Michael’s phenomenal solo career, his loves, his suffering, and his tragic end. It is a sophisticated, no-holds-barred examination of the man, aimed at fostering a true and final understanding of who he was, why he was, and what shaped him.
Jermaine knows the real Michael as only a brother can. In this raw, honest, and poignant account, he reveals Michael the private person, not Michael “the King of Pop.”
Jermaine doesn’t flinch from tackling the tough issues: the torrid press, the scandals, the allegations, the court cases, the internal politics, the ill-fated This Is It tour, and disturbing developments in the days leading up to Michael’s death. But where previous works have presented only thin versions of a media construct, he provides a rare glimpse into the complex heart, mind, and soul of a brilliant but sometimes troubled entertainer. As a witness to history on the inside, Jermaine is the only person qualified to deliver the real Michael and reveal what made him tick, his private opinions, and unseen emotions through the most headline-making episodes of his life.
Filled with keen insight, rich in anecdotes and behind-the-scenes detail, You Are Not Alone is the book for any true Michael Jackson fan and for anyone trying to make sense of the artist whose death was so premature.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:06 | Сообщение # 2 |

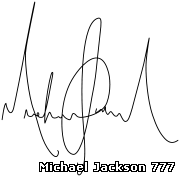
Новосибирск
|
купить
перевод
Джермейн Джексон «You Are Not Alone»
Памятник
Этой одой Гораций заканчивает свою деятельность лирическаго поэта и потому он говорит здесь о своем литературном значении. В этой оде Гораций говорит о том, что он создал себе памятник прочнее меди, выше пирамид. Эта ода является тем стихотворением которое подало Пушкину идею написать «Памятник». Написана ода эта в 22 г. до Р. X.
Я воздвиг себе памятник прочнее (досл.: более постоянный) меди и выше царственных построек пирамид; его не может разрушить ни едкий дождь, ни ярость Аквилона (досл.: яростный Аквилон), ни безчисленный ряд годов, ни быстробегущее время (досл.: бег времен). Не весь я умру, но часть меня большая (досл.: большая часть меня) избегнет смерти, и в будущем слава моя будет расти, неувядая (досл.: я молодой буду расти последующей славой) до тех пор, пока верховный жрец будет подниматься на Капитолий вместе с молчаливой весталкой (досл.: девой). Обо мне будут говорить, что я, сделавшись великим из незнатнаго уроженца страны, где шумит бурный Ауфид, где Давн (некогда) правил над сельскими народами, в стране, страдавшей безводием (досл.: где бедный водой Давн правил над сельскими народами), первый применил Эолийскую поэзию (досл.: песню) к звукам италийской лиры (досл.: к италийским мотивам). Мельпомена! Проникнись гордым сознанием своих заслуг (досл.: возьми гордость добытую заслугами) и благосклонно увенчай мою голову лавровым венком (досл.: и благосклонно увенчай мне голову Дельфйским лавром).
По изданию С. Манштейна, составил М. М. Гринфельд (книгоиздательство М. С. Козмана в Одессе, 1909 г.).
http://www.horatius.ru/index.xps?18.0.330
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не заростет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокой век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Строками из оды Горация начинается книга Джермейна Джексона, «You Are Not Alone. Michael: Through A Brother’s Eyes» («Ты не одинок. Майкл: глазами брата»). Конкретнее:
«Я воздвиг себе памятник прочнее меди и выше царственных построек пирамид; Не весь я умру, но часть меня большая избегнет смерти, и в будущем слава моя будет расти, неувядая» (с)
Пролог, 2005г.
Небольшой гостиничный номер в Санта Марии, Калифорния. Я вглядываюсь в зеркало, запотевшее от горячего пара. Склонившись над раковиной, завернутый в полотенце, я вывожу на стекле, которое сейчас представляет собой лишь полотно для выражения собственных мыслей, установку. «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. НЕВИНОВЕН НА 1000%». Точка. Превращаю ее в «смайлик». Вера в счастливое завершение.
Я сосредотачиваюсь на этих словах. Я ясно представляю себе результат: победа, правосудие, оправдание.
На календаре 10-е марта 2005-го года: день одиннадцатый. Одиннадцатый день балаганного судилища над моим братом, в котором его видят обвиненным в деле по совращению малолетнего.
«МАЙКЛ ДЖЕКСОН. НЕВИНОВЕН НА 1000%», снова читаю я, наблюдая, как в верхнем углу зеркала растворяется «смайлик». Прикованный к месту, я мысленно переношусь в 1982-ой год, в ванную комнату Майкла в Хейвенхерсте, Энчино, и знаю, что я в точности повторяю его в 2005-м году. Тогда он вывел черным маркером на зеркале своей ванной: «ТРИЛЛЕР! РАСПРОДАНО 100 МИЛЛИОНОВ КОПИЙ... АНШЛАГ НА СТАДИОНАХ».
Думай, представляй, верь, претворяй в жизнь. Воплощать мечту в реальность: так нас учили мама, Кэтрин, и отец, Джозеф.
«У тебя все получится... все получится». Я слышу голос Джозефа на первых репетициях Джексонс Файв: «Мы будем повторять раз за разом, пока не добъемся нужного результата. Думай, повторяй, представляй... И все произойдет». «Сфокусируйся на мысли всем своим существом», мягко добавляет Мама.
За годы до популяризации программ позитивного мышления подобного рода установки были впрессованы в наши головы. Не допускать сомнений или растерянности.
Майкл представлял степень размаха, новаторства и успеха, которую он жаждал получить от альбома «Триллер», поэтому идея эта, с ее положительным зарядом, запечатленная на зеркале, дала старт всему происходящему. Спустя годы, уже после его перезда в Неверленд, слова изчезли, но магическим образом появлялись вновь, еле видимые глазу, когда зеркало запотевало.
Мутное и запотевшее стекло с тех пор постоянно напоминает мне о честолюбивых замыслах моего брата.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:06 | Сообщение # 3 |

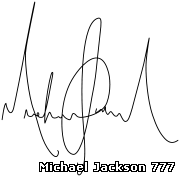
Новосибирск
| Этот ушиб (он выходил из душа) причиняет ему неимоверную боль и кажется последним ударом, которым так щедро награждает его судьба. Но он же растлитель детей, верно? Он же этого заслуживает? У полиции ДОЛЖНЫ быть неопровержимые доказательства, иначе, его бы сейчас не судили, ведь так?
Людям предстоит многое узнать об истинном положении вещей.
Справа от меня сидят Мама и Джозеф, как и я, они не знают, чем помочь. Быть рядом с ним и казаться сильными. Майкл морщится от боли в груди и спине, но чувствуется, что его душевные страдания намного сильнее.
В течение всей последней недели я был свидетелем, как ухудшается его физическое состояние. В сорок шесть лет его худое тело танцора становится похоже на хрупкую оболочку, походка становится неуверенной. Он излучал свет, а осталась вот такая вымученная улыбка. Выглядит он изможденным, уставшим.
Ненавижу то, что с ним происходит. Хочу, чтобы это прекратилось. Хочу кричать так, как не может кричать Майкл, вместо него. Он поднимается и начинает говорить о вчерашнем дне слушаний: «Им нужно, чтобы со мной было покончено... Таков их план – настроить всех против меня. Таков их план».
Эмоциональная составляющая никогда не была сильной стороной моего отца. Пока говорит Майкл, Джозефу не терпится завести разговор о концерте в Китае.
«Сейчас не время, Джо!» - напоминает ему Мама.
«А когда, если не сейчас?» - говорит он.
Таков Джозеф. Прямой, использующий своего рода «окно» для обсуждения планов, не относящихся к судебному разбирательству. «Это его отвлечет» - добавляет он. Майкла такое поведение не удивляет, не ставит в тупик. Как и все мы, он уже привык и понимает, кем является его отец. Я же предполагаю, что Джозеф пытается таким образом абстрагироваться от событий, которые он не может контролировать, сконцентрироваться на будущем, когда Майкл будет свободен и сможет выступать. Указать на «свет в конце туннеля». Но звучит неуместно. Несмотря на это, брат продолжает: «Что я сделал, кроме добра? Не понимаю...»
Я знаю, о чем он думает. Все, что он делал, это создавал музыку, приносил радость людям. Распространял послание любви, надежды, гуманности. Особенно это важно для детей, а его обвинили в причинении вреда ребенку. Это сродни истории, если бы Санта Клаусу вменяли в вину то, что он оставляет подарки в детских спальнях.
В этом деле нет ни следа доказательств вины моего брата. ФБР это знает. Полиция знает. Сони знает. В документах ФБР за 2009-ый год будет подтверждено: за 16 лет расследований не было обнаружено никаких свидетельств какого-либо неподобающего поведения с его стороны. В 2005-ом году дело фабрикуется. Думай, представляй, верь, претворяй в жизнь. Версия «со знаком минус».
Майкл поднимает глаза. Выглядит мрачнее чем когда-либо, но я вижу, что ему надо выговориться. До этого момента он редко показывал свои эмоции. Он держал себя в руках, полный решимости, говорил о своей вере, о вере в Господа, а не в судью в одеяниях. Но сейчас силы покидают его, причиной тому, без сомнения, стали вчерашние показания и травма спины. Слишком много для одного человека.
«Все, что они говорят обо мне – неправда. Почему же так происходит?»
«О, милый...» - начинает Мама, но Майкл поднимает руку. Он еще не закончил.
«Обо мне говорят ужасные вещи. Я такой. Я сякой. Отбеливаю кожу. Причиняю боль детям. Я бы никогда... Это неправда, неправда..»,- голос его дрожит. Он пытается сорвать с себя пиджак, желая высвободиться, будто обиженный ребенок, шатается на ногах, не обращая внимания на боль в спине.
«Майкл...» - снова начинает Мама.
Но уже текут слезы. «Обвинять и заставить мир поверить в обвинения... Они неправы... Так неправы.»
Джозеф парализован таким всплеском эмоций. Мама закрывает глаза руками. Майкл тянет за пуговицы, пиджак свисает с плеч, обнажая грудь.
Он рыдает. «Взгляните на меня! Взгляните на меня! Все, что бы я ни делал, понимается превратно в этом мире!». Он сломлен.
Майкл стоит перед нами, голова опущена, будто он стыдится чего-то. До сегодняшнего дня он тщательно скрывал состояние своей кожи даже от своей семьи. Настоящее положение вещей меня шокирует. Туловище его светло-коричневого цвета, грудная клетка - в больших белых пятнах. Участки белого цвета покрывают ребра, живот, бок. Пятна помельче – на плече, на верхней части руки.
Белого больше, чем темного, естественного цвета кожи. Он выглядит белым мужчиной, который пролил на себя кофе. Такова природа витилиго, болезни, которую не принимал циничный мир, предпочитая верить в то, что он отбеливает кожу.
«Я хотел вдохновлять... Я старался учить...» - голос его затихает, Мама подходит, чтобы утешить.
«Господь видит истину. Господь видит истину» - повторяет она.
Мы все собираемся вокруг него, из-за травмы не получается обнять, но поддерживаем, как можем. Я помогаю ему одеть пиджак. «Будь сильным, Майкл,» - говорю я. «Все будет хорошо».
Он собирается с силами, извиняется. «Я выдержу. Я в порядке».
Я оставляю его с родителями, обещаю вернуться после своей поездки зарубеж. Братья вскоре меня сменят, через пару дней приеду сам. Секьюрити передают послание из зала суда, от адвоката Майкла, Тома Мезеро. Судья не доволен, Майкл опаздывает, если он не появится в течение часа, залог будет отозван. Ему даже сейчас не верят.
В отеле я пакую вещи, по телевидению передают репортаж из суда. Скрываясь под зонтом, чтобы уберечь кожу от влияния солнца, брат, еле передвигая ногами, входит в здание. Выглядит он также, как и когда я его оставил: в пижамных брюках и в пиджаке, под ним - белая футболка. Джозеф и один из охранников идут рядом, поддерживая его с обеих сторон.
Майкл всегда тщательно выбирал одежду, желая появляться в суде в безупречном виде, полным чувства собственного достоинства. А вот так... Наверняка, все внутри у него переворачивается. Цирк затягивается ... А прошло всего лишь десять дней.
Я поднимаю телефонную трубку. Человек на том конце провода подтверждает: «Да, все в силе. Да, частный самолет может прибыть в аэропорт Вэн Наиз. Да, мы готовы отправиться туда, куда необходимо. Все, что нам нужно – это предупреждение за день, и четырехмоторный DC-8 взметнется в воздух с Майклом на борту, держа путь на восток – в Бахрейн – где он начнет новую жизнь, вдали от ложного американского правосудия. Когда подойдет к концу этот фарс, я буду счастлив избавиться от своего гражданства и увезти Майкла и его семью в место, где до него уже нельзя будет добраться. Нам поможет близкий друг. Все готово. Пилот на старте. Невиновый человек не сядет в тюрьму за то, чего не совершал. Там он не выживет, а я не могу сидеть, сложа руки, и даже в мыслях не собираюсь представлять себе последствия трагедии.
«План Б» был организован без его участия, он о нем не знает. Хотя как-то я упомянул о том, что у нас все под контролем и чтобы он не переживал, думаю, он мог что-то заподозрить. Но знать он не должен. Пока. Не должен.
Я решил, что план будет приведен в исполнение, если Том Мезеро посчитает, что дела складываются не в нашу пользу. Вылетим из аэропорта долины Сан Фернандо, рядом с Лос-Анжелесом. Мы вывезем его из Неверленда, тайком, ночью. Или придумаем еще что-нибудь. Но пока я откладываю свои замыслы, основываясь на словах Тома. Адвокат дает оценку каждому дню: «Да, день был достаточно неплох», даже если он и казался провальным. Мезеро внимательно следит за свидетельскими показаниями, он знает, когда обвинение совершает ошибки.
Мы же научились абстрагироваться от уродливых медиа-репортажей, освещающих слушания. Поэтому я жду, а пока мною движет вера в справедливость, я вывожу слова на зеркалах ванных комнат.
Я задумываюсь, откуда Майкл черпает веру и силы, которые помогают ему проходить через такого рода испытание. Я безмерно горжусь им, в то время как СМИ уже представляют его виновным до окончания суда. Они с радостью раскрывают подробности своеобразных и будоражащих фантазию свидетельских показаний, а аргументированные доказательства защиты оставляют только в качестве комментариев. Я помню, что сказал Майкл в 2003-ем году, в самом начале судебного разбирательства: «Ложь проходит короткие дистанции, у правды же – долгий путь... Победит правда.» Слова, вернее которых нет. Которые никогда не появятся в его песнях.
Я начинаю представлять, как он выходит свободным из здания суда. Вырисовываю эту сцену, яркую, будто из кинофильма. Когда все закончится, я сделаю все возможное, чтобы очистить его имя. Худшее останется позади. Больше они его не потревожат. Я буду стоять рядом с ним, потому что знаю, что им движет, что заставляет его жить. Я помню мальчишку, который живет в нем. Я помню брата с улицы Джексон, 2300. С младенчества мы были вместе: в мечтах, в славе, в горестях, в творчестве, в конфликтах, в трудностях. Шли разными дорогами. Он плакал вместе со мной. Я кричал на него. Он отказывался от встреч со мной. Он умолял меня не покидать его. Мы оба понимали причины взаимного, пусть и невольного, предательства, как и преданности друг другу. Я знаю его и его душу. Потому что мы – братья.
Однажды, повторяю я себе, когда 2005-ый год останется позади, люди позволят ему отдохнуть и попробуют понять его, а не судить. Они будут относиться к нему с таким же вниманием и состраданием, с какими он всегда относился к ним. Они отбросят в сторону предубеждения и увидят его душу, душу не только артиста, но и человека: несовершенного, сложного, совершающего ошибки. Кого-то, отличного от своего внешнего имиджа.
Однажды, правда пройдет долгий путь...
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 4 |

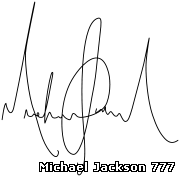
Новосибирск
| НАЧНЕМ С НАЧАЛА
Глава 1
Вечный ребенок
Был канун Рождества. Майкл стоял рядом со мною — мне было 8, ему едва исполнилось 4 — облокотившись на подоконник и положив подбородок на сложенные руки. Свет в спальне был выключен, и мы завороженно смотрели из окна, как на улице падает снег. Он валил так густо и так быстро, что казалось, будто в небесах кто-то распотрошил подушку, перья кружились в свете уличных фонарей, и снежный туман заволакивал всю округу. На трех соседских домах было по паре гирлянд из разноцветных лампочек, но еще один – это был дом семьи Уайтов – был весь украшен яркими огоньками, а на лужайке перед домом стоял Санта и его олени со сверкающими носами. Поток мигающих белых огней стекал с крыши, нависал над окнами и тянулся вдоль тропинок — до самой прекраснейшей Новогодней елки, какую мы когда-либо видели.
В нашем крошечном доме на углу Джексон-стрит и 23-й улицы не было ни елки, ни гирлянд, ничего. Он был единственным, не украшенным к Рождеству. Нам казалось, что наш дом был одним таким во всем Гэри, хотя мама уверяла, что есть и другие, где живут другие Свидетели Иеговы, которые не празднуют Рождество, например, семья миссис Мейсон в двух кварталах от нас. Однако это объяснение не помогало нам справиться с разочарованием: мы видели чудесные вещи, от которых захватывало дух, но нам говорили, что празднование Рождества — это грех, что это не божья воля, а коммерциализация. В преддверии 25 декабря мы чувствовали себя так, будто мы подглядываем в замочную скважину, пытаясь попасть на праздник, на который нас не звали.
Из нашего холодного серого мира мы будто заглядывали в витрину магазина, где все было живым, радостным и искрящимся всеми цветами радуги, там дети играли на улицах со своими новыми игрушками, катались на новых велосипедах или врезались на новых санках в сугробы. Мы пытались представить, что они чувствуют, глядя в их счастливые лица. Мы с Майклом стояли у окна и играли в нашу собственную игру: в свете фонаря замечали одну из снежинок и следили за ней до тех пор, пока она не приземлится. Мы наблюдали, как отдельные снежинки, весело порхающие в воздухе, на земле превращаются в сплошную белую массу. В тот вечер нам пришлось долго играть в эту игру, прежде чем мы успокоились.
Майкл выглядел грустным — кажется, я и сейчас смотрю на него с высоты 8-летнего мальчика и чувствую ту же грусть. И вдруг он запел:
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
Oh what fun it is to ride,
In a one horse open sleigh..."
Тогда я впервые услышал, как он поет, это был голос ангела. Он пел тихонько, чтобы не услышала мама. Я присоединился вторым голосом, и мы спели “Silent Night" и "Little Drummer Boy". Два мальчика, тайком поющие рождественские песни, услышанные нами в школе, тогда мы еще не знали, что пение станет нашей профессией.
Мы пели — и Майкл светился от радости, мы оба были безмерно счастливы, потому что в этот момент нам удалось заполучить частичку волшебства. Но потом песни кончились, и мы еще острее почувствовали, что все равно нам придется смириться и следующее утро будет таким же, как и все остальные. Я много раз читал, что Майкл не любил Рождество из-за того, что наша семья его не праздновала. Это неправда. Это было неправдой с того момента, как 4-летний Майкл заявил, уставившись на дом Уайтов: «Когда я вырасту, у меня будут гирлянды. Лампочки будет повсюду. Каждый день будет как Рождество!»
«Быстрее! Еще быстрее!» — пронзительно визжал Майкл. Он сидел в тележке из супермаркета, поджав коленки к подбородку, в то время как Тито, Марлон и я бежали и толкали ее вниз по 23-й улице. Я держался за ручку, два моих брата подталкивали ее с боков, колеса тарахтели и подпрыгивали на неровной дороге. В тот летний день мы разогнались и неслись вперед, представляя себя командой по бобслею. Кроме того, мы любили играть в поезд. Находили две или три тележки для покупок из ближайшего супермаркета «Джайентс» и соединяли их вместе. «Джайентс» находился в трех квартал от нас, напротив спортивного поля с задней стороны нашего дома, но их тележки часто оказывались брошенными на улицах, так что раздобыть их не составляло труда. Майкл был нашим «машинистом».
Он сходил с ума от игрушечных поездов фирмы Lionel — маленькие, но увесистые паровые локомотивы и вагоны, упакованные в оранжевые коробки. Всякий раз, когда мама приводила нас в магазин Армии Спасения покупать одежду, он устремлялся наверх в отдел игрушек — посмотреть, не выставил ли кто на продажу подержанную железную дорогу Lionel. В общем, в его воображении наши тележки для покупок превращались в небольшой поезд, а 23-я улица в прямой отрезок железной дороги. Этот поезд был слишком скоростным для того, чтобы подбирать пассажиров, он страшно грохотал на спуске, Майклу очень нравились такие звуковые эффекты. Мы резко жали по тормозам, когда 23-я улица упиралась в тупик ярдах в пятидесяти от нашего дома.
Когда Майкл не играл в поезд на улице, он сидел на коврике в нашей общей спальне и мечтал о поезде от Lionel. Наши родители не могли себе позволить купить ему новый поезд, не говоря уже о целом наборе с электрической железной дорогой, рельсовыми путями, станциями и сигнальными будками. Вот почему мечта иметь собственную железную дорогу родилась в его голове задолго до мечты выступать на сцене.
Скорость. Я убежден, самым волнительным для нас, когда мы были детьми, было возбуждение от скорости. Что бы мы ни делали, мы старались делать это как можно быстрее, пытаясь обогнать друг друга. Если бы наш отец понимал, до какой степени мы любили скорость, он, конечно, запретил бы такие игры: нам нельзя было рисковать, ведь травмы могли похоронить нашу карьеру.
Когда мы переросли поезда из тележек для продуктов, мы начали строить «автомобили» из коробок, поставленных на колеса от детской коляски и деревянные доски с соседней свалки. Тито был «инженером» нашего братства, он отлично разбирался в том, что и как конструировать. Он постоянно разбирал и потом собирал часы и радио на кухонном столе или наблюдал за Джозефом, ковыряющимся под капотом его Бьюика припаркованного возле дома, так что он знал, где находятся все отцовские инструменты. Мы сколотили три доски для формирования днища и ходовой части. Спереди мы прибили гвоздями сидение — квадратный деревянный ящик, взяли бельевую веревку для нашего рулевого механизма и, протянув через передние колеса, закрепили ее как поводья. По правде говоря, маневренность нашего автомобиля была примерно как у нефтяного танкера, поэтому мы всегда путешествовали только по прямой.
Широкая аллея позади нашего дома — ряд двориков с газонами с одной стороны и забор в виде натянутой цепи с другой — была нашей гоночной трассой, а гонки были тогда нашим главным увлечением. Мы часто устраивали соревнование между двумя нашими «автомобилями» на 50-ярдовой дистанции: Тито толкал Марлона, а я толкал Майкла. Между нами постоянно было чувство соперничества: кто быстрее, кто победитель.
"Давай, давай, давай, ДАВАЙ!” — орал Майкл, наклоняясь вперед в отчаянном рывке к победе. Марлон тоже ненавидел проигрывать, так что у Майкла был сильный конкурент. Марлон был парнем, который никак не мог понять, почему он не может обогнать собственную тень. Я таким и представляю его сейчас: несется по улице, не видя ничего вокруг, с соревновательным задором на лице, который сменяется раздражением, когда он замечает, что не может сократить расстояние между собой и своей неотступной тенью.
Мы гоняли на этих «автомобилях», пока металлические крепления не оказывались разбросанными по всей улице, колеса гнулись или отлетали вовсе, Майкл валялся на земле с одной стороны, а я с другой, потому что хохотал так сильно, что мои ноги подкашивались сами собой.
Карусель на школьной площадке была еще одним рискованным приключением. Пригнувшись к центру металлической основы, Майкл вцеплялся в нее и просил братьев раскручивать карусель так сильно, как они могут. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — Майкл кричал с зажмуренными глазами и громко смеялся. Он обычно садился верхом на металлическую трубу, словно на коня, и кружился, кружился, кружился... Глаза закрыты. Ветер в лицо.
Мы все мечтали управлять поездами, гонять на машинках и кружиться на большой красивой карусели в Диснейленде.
Мы были знакомы с мистером Лонгом задолго до того как узнали про Роальда Даля. Для нас он был настоящим волшебником, афроамериканским Вили Вонкой, со светлыми волосами, худощавый, с обветренной темной кожей. Он выходил из своего дома на 22-й улице, в квартале от нашего дома, и продавал самодельные конфеты.
По дороге до начальной школы на дальнем конце Джексон-стрит многие дети сворачивали к дверям мистера Лонга. Его младший брат Тимоти ходил в нашу школу, а знать Тимоти — это был хороший расклад, это означало от двух до пяти центов за мешочек, набитый лакричными конфетами, сладкими тянучками, лимонными конфетами, банановыми — что угодно, все было у него аккуратно разложено на топчане в прихожей. Мистер Лонг не улыбался и мало говорил, но мы с нетерпением ждали момента, чтобы зайти к нему в гости перед школой. Мы выхватывали у него из рук наши покупки, а он неторопливо наполнял следующие пакеты. Майкл ЛЮБИЛ конфеты, и этот утренний ритуал озарял начало каждого дня. Как он добывал деньги — совсем другая история, мы к ней еще вернемся.
Каждый из нас охранял свой коричневый бумажный пакет с конфетами, словно это был слиток золота. А когда мы возвращались домой, мы прятали их в нашей спальне, где у каждого было свое тайное место, и обычно мы всегда старались вычислить друг друга. Мое тайник находился под кроватью или под матрасом, но куда бы я не запрятал свои сокровища, я всегда бывал разоблачен, зато Майкл прятал свои запасы так хорошо, что мы ни разу их не нашли. Когда мы выросли, я не раз пытался выведать у него эту страшную тайну, но в ответ он лишь тихонько смеялся. Вот так Майкл и смеялся на протяжении всей жизни: это мог быть сдержанный смех, сдавленный смешок или тихое хихиканье; всегда скромный, часто застенчивый.
Майкл любил играть в магазин: строил прилавок, положив доску на стопки книг, сверху скатерть, потом он раскладывал свои конфеты. Этот магазин располагался в дверном проеме нашей спальни или на нижнем уровне двухъярусной кровати; там он сидел на коленках за прилавком, ожидая покупателей. Мы торговались друг с другом, выменивали одно на другое или использовали сдачу, полученную от мистера Лонга, а иногда монетки, найденные на улице.
Но Майклу на роду было написано стать великим артистом, а не великим бизнесменом. Это стало понятно, когда однажды наш отец попросил у Майкла отчет, почему он задержался после школы.
— Где ты был? — спросил Джозеф.
— Я ходил за конфетами, — ответил Майкл.
— Сколько ты заплатил за них?
— Пять центов.
— И за сколько ты собираешься их продать?
— За пять центов.
Джозеф дал ему подзатыльник: «Ты не должен продавать что-либо по той же цене, что и купил!» Типичный Майкл: он всегда был слишком честным и никогда — достаточно жестким. «Почему я не могу их отдать за пять центов?» — вопрошал он в спальне. Логика разбивалась об него, он не понимал, за что получил оплеуху, от этого было обидно вдвойне. Я оставил его на кровати бормочущим что-то себе под нос, он раскладывал свои конфеты по кучкам и в воображении, несомненно, продолжал играть в магазин так, как нравилось ему.
Через несколько дней Джозеф увидел Майкла на заднем дворе, он раздавал конфеты детям, выстроившимся на улице вдоль забора. Это были дети из семей еще более бедных, чем наша.
— Почем ты продавал конфеты? — спросил Джозеф.
— Я не продавал. Я раздал просто так.
Почти в двух тысячах миль от этого места и более 20 лет спустя я посетил ранчо Майкла Неверленд в долине Санта Инез, в Калифорнии. Он потратил кучу времени и денег, чтобы превратить эту огромную территорию в тематический парк, к тому времени все основные работы были закончены, и семья прибыла посмотреть на результаты. Неверленд всегда изображали как некое экстравагантное место, созданное «воспаленным воображением», помешанным на Диснее. Отчасти это так, но идея была намного глубже, я сразу же понял это, когда увидел его ранчо собственными глазами.
Здесь воплотились все наши детские мечты: яркие рождественские огоньки обрамляли дорожки, лужайки, деревья, балки и водостоки его английского тюдоровского особняка. Они не выключались круглый год, чтобы быть уверенным, что это «Рождество, которое наступает каждый день». Настоящий большой поезд с паровым котлом ездил между магазинами и кинотеатром, а другой, поменьше, курсировал по всему городку, включая зоопарк. Пройдя сквозь парадные двери главного дома (там вас встречала фигура дворецкого в натуральную величину), вверх по широкой лестнице и вниз по коридору, вы оказывались в игровой комнате. Внутри обращали на себя внимание большие фигуры Супермена и Дарта Вейдера возле дверей и огромный стол посреди комнаты. На нем находился винтажный набор железной дороги Lionel: два или три поезда постоянно курсировали по путям с включенными огнями, окруженные моделями горного ландшафта, деревень, городов и водопадов. Внутри дома, как и снаружи, Майкл построил для себя самую большую игрушечную железную дорогу, какую вы только можете представить.
Вернемся на улицу, там был полноценный профессиональный картодром с зигзагообразными препятствиями и крутыми поворотами, и карусель кружилась под музыку, прекрасная карусель с разукрашенными лошадками. Был там и магазин конфет, где все было бесплатно, и Рождественское дерево, переливающееся огоньками круглый год. В 2003 году Майкл сказал, что он создавал ранчо, «чтобы получить то, чего у него никогда не было в детстве». Это не совсем так, потому что это было именно то, что радовало его в детстве, но слишком короткий срок, теперь все это воплотилось с небывалым размахом. Он сам называл себя «фанатиком фантазии», это было его постоянным свойством.
Неверленд возвращал нас в наше прошлое, и причина была в том, каким он ощущал свое детство — потерянным; его внутренний ребенок скитался по его прошлому, ища путь, чтобы воссоединится с ним в будущем. Это не был отказ от взросления, он просто не мог повзрослеть, потому что никогда не чувствовал себя ребенком. От Майкла-малыша ожидали, что он будет вести себя взрослее взрослого, и когда, наконец, он получил возможность выбирать, он вернулся в свое детство. В нем было больше от Бенджамина Баттона, чем от Питера Пена, с которым он любил себя сравнивать. Я часто пытался напомнить ему о смешных эпизодах из нашего детства, но обычно он вспоминал очень неохотно, словно для него это было связано с чем-то мучительным. Думаю, дело еще и в том, что я старше на 4 года, все-таки многие вещи мы воспринимали по-разному.
Друг, племянник и я взяли квадроциклы, чтобы осмотреть 2700 акров Неверленда, которые казались бесконечными, уходящими за зеленый горизонт с разбросанными тут и там дубовыми рощами. Пыльная горная дорога привела нас на самый высокий холм вдалеке от людных мест, на плато, обеспечивающее полный обзор местности. И когда я смог охватить одним взглядом все разом — ранчо, тематический парк, озеро, чертово колесо, поезда, растительность — это наполнило меня благоговением и гордостью. «Неужели это все создал мой брат!» — восклицал я мысленно, а позже повторил это ему лично. «Это место бескрайнего счастья», — ответил он.
Удивительно, насколько позднее извратили восприятие Неверленда, пытаясь оценивать мир Майкла по его стоимости и основываясь на неправдивых заявлениях других людей. Всех интересовали только скандалы вокруг него и его ранчо, но никто не задался вопросом «почему?» Мы все родом из детства, его прошлое и его детство сделали его таким, каков он есть. А слава, особенно статус иконы, прилипший к моему брату, создали общественный барьер, огромный как плотина, перед его стремлением быть понятым. Но чтобы действительно его понять, вам нужно побывать в его шкуре, посмотреть его глазами на все, что его окружало. Как сказал Майкл в 2003 году, обращаясь к фанатам в шоу Эда Брэдли на канале CBS: «Если вы хотите понять меня — вот песня, которую я написал. Она называется “Childhood”, песня, которую вам стоило бы послушать…»
Самое искреннее свидетельство того, что Майкл был взрослым человеком с душою ребенка, вы найдете в тексте: «Говорят, что я странный, потому что люблю самые обыкновенные вещи… но знаете ли вы мое детство?» Он раскрывал свою душу, он хотел донести это до людей, рассказать о том, через что он прошел.
Многие пытались заглянуть через окно нашего детства, чтобы увидеть, что на самом деле стоит за грязными сплетнями СМИ и статусом поп-иконы. Но я уверен, что вам пришлось бы прожить эту жизнь, чтобы узнать правду и понять ее. Наш мир был уникальным, мы были братьями и сестрами в одной большой семье, в маленьком доме под номером 2300 на Джексон-стрит, названной в честь президента Эндрю Джексона — мы тут ни при чем. Это место, где начиналась наша история, наша музыка и наши мечты. Там же берут начало его песни — именно там, я надеюсь, вы сможете лучше понять, каким был Майкл.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 5 |

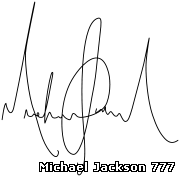
Новосибирск
| ГЛАВА 2
Джексон-стрит, 2300
Все началось возле кухонной раковины, в тот день, когда мы случайно обнаружили, что наши голоса неплохо звучат вместе.
Для нас это было больше, чем просто мытье посуды — это был целый послеобеденный семейный ритуал. Мы дежурили по хозяйству каждую неделю, разделившись по парам: двое ребят мыли посуду, двое других убирали ее, наша Мама стояла в центре, в переднике поверх платья, руки по локоть в мыльной пене. Она всегда насвистывала или напевала какую-нибудь мелодию, но песней, которую она впервые предложила нам спеть вместе, была “Cotton Fields” — старый негритянский блюз, написанный Лидом Белли. Эта песня была ей очень дорога, потому что она выросла в поселке Ифола, в Алабаме, где в мае 1930 года она родилась под именем Кэти Скруз.
Ее бабушка и дедушка работали на хлопковых полях, не зря Алабаму называют «хлопковым штатом», а ее прадед был рабом у плантаторов по фамилии Скруз. И он, так же как и ее отец, любил петь. По словам Мамы, «его голос разносился из церкви по всей округе». Она говорила, что хороший слух и голос достался ей от предков, которые были баптистами и пели в церковном хоре; ее тоже крестили в баптистской церкви. Нам говорили, что в нашем роду хорошие голоса были у многих. Отец моего отца, Сэмюэль Джексон, который был учителем и директором школы, был также непревзойденным исполнителем спиричуэлов, у него был «высокий красивый голос», который перекрывал весь церковный хор. Когда Мама училась в школе, она училась играть на кларнете и фортепиано, а Джозеф играл на гитаре.
Наши родители встретились в 1949 году, и их таланты соединились, создав какой-то особый ген, унаследованный нами. По всей видимости, в этом не было ничего случайного, но Мама настаивала, что мы получили подарок от Бога. Или, как позднее говорил Майкл, «божественное сочетание песни и танца».
Мы все любили слушать, как поет наша Мама. Стоя возле кухонной раковины, она уносилась мыслями в поля Алабамы, и от ее голоса у меня мурашки бежали по коже, так выразительно и чисто она пела. Так тепло, мягко и нежно звучал ее голос, он рассказывал нам удивительные истории. Однажды наш черно-белый телевизор был отправлен в ремонт, мы начали петь на кухне, чтобы развлечь себя, и в тот день я попытался спеть с мамой в два голоса. Мне было что-то около пяти, но я смог поймать нужную тональность и найти свою партию. Продолжая петь, она удивленно посмотрела на меня сверху вниз. После того, как это произошло, мои братья, Тито и Джеки, и сестра Риби тоже присоединились к нам в наших кухонных концертах. Майкл был еще грудным малышом, который в то время лежал в кроватке, но когда посуда была убрана и столы вытерты до блеска, мама садилась, начинала качать его кроватку и пела ему колыбельные. «Хлопковые поля» была песней, с которой я начал петь и которую Майкл первой услышал в своей жизни.
Мои первые воспоминания о Майкле — когда он был в колыбели. Я не могу вспомнить, как он родился, или тот момент, когда Мама принесла его из роддома. Рождение нового ребенка было не очень большим событием в нашей семье. Мне было пять, когда я начал менять ему подгузники. Я делал то, что мы все делали — помогал нашей Маме, добавляя еще одну пару рук для того, чтобы ухаживать за семьей, состоявшей из 9 человек.
Майкл с пеленок был непоседой, с неуемной энергией и любопытством. Если его хотя бы на секунду упускали из виду, он тут же заползал под стол или под кровать. Когда мама включала нашу старенькую стиральную машинку, он приседал и притопывал под ее дребезжание. Менять ему подгузники было все равно, что пытаться удержать в руках мокрую скользкую рыбу — извивающуюся и брыкающуюся. Искусство надевания подгузников было тестом на взрослость, но мне было всего пять, и чаще всего Риби или Джеки приходили мне на помощь. У Майкла были очень длинные, тонкие пальцы, которыми он хватался за мой большой палец, и огромные глаза, которые будто говорили: «Мне очень нравится создавать тебе трудности, приятель». Но я понимал, что это мой маленький брат, за которым нужно ухаживать. Мы заботились друг о друге, мы все были так воспитаны, но я чувствовал свою личную ответственность за Майкла. Наверное, потому что я постоянно слышал одно и то же: «Где Майкл?», «Что он натворил?», «Ему поменяли подгузники?»
«Да, Мама… Мы присматриваем за ним… он здесь, — отвечал кто-нибудь из нас. — Не волнуйся, с Майклом все в порядке».
Мамина мама, бабушка Марта, обычно купала нас детьми в большой кастрюле, наполненной мыльной водой. Я наблюдал за тем, как Майкл стоял в этом блестящем баке, обреченно задрав подбородок, его отмывали с утомительной тщательностью с головы до пят. Мы должны были быть чистыми до блеска. Думаю, это внушали нам еще до того, как мы начинали ходить или говорить. И нет ничего хуже, чем хозяйственное мыло, которым нас отмывали. Оно давало мало пены, поэтому нас намыливали, а затем терли, терли, и терли. Мама была буквально помешана на чистоте, чтобы все было аккуратным и сияло. Что бы там ни случилось, но все должно быть чистым. И мы, дети, тоже должны были выглядеть как новая копейка.
Микробы казались нам невидимыми монстрами. Микробы приводили к болезням. Микробы — это то, что приносят другие люди. Микробы есть в воздухе, на улице, на любой поверхности. Мы постоянно чувствовали, что мы под прицелом. Если один из нас чихнул или кашлянул, нам тут же давали касторку: мы все выпивали по ложке, чтобы не дать инфекции распространиться. Я с уверенностью могу сказать о Майкле, Ла Тойе, Дженет и себе, что мы росли с почти невротическим страхом микробов, и нетрудно понять, почему.
В кухне, помимо пения, каждый из нас проходил еще более важный урок: «Посуду моем только чистой водой… ЧИСТОЙ водой!» И еще: «Берите самую горячую воду, какую могут выдержать руки, и побольше мыла». Каждая тарелка была покрыта целой горой пены. Каждый стакан отмывался и оттирался до блеска, а потом проверялся на свет, чтобы удостовериться, что на нем не осталось ни одного пятнышка от воды. Если оно было замечено, все начиналось сначала.
Приходя с улицы, мы должны были проходить дезактивацию. Первые слова, которые произносила Мама: «Ты помыл руки? Иди мыть руки!» Если она не услышит через секунду, как открывается кран, у тебя будут проблемы. По утрам перед школой гигиенические процедуры всегда проходили одинаково: «Ты помыл лицо? Ты помыл ноги? А между пальцами? А локти?» Затем была проверка: кусочек ваты смачивался спиртом, она терла им наши шеи сзади. Если он становился серым, значит, ты помылся недостаточно хорошо. «Марш в ванную, умойся как следует». Если мы хотели взять шоколадный кекс или что-то такое, наши руки снова проверялись. «Но я уже помыл их!» — возмущался я. «Ты брался за дверную ручку, детка — иди, и помой их еще раз!»
Мы никогда не носили одну и ту же одежду больше двух дней, затем она должна была быть постирана и выглажена. Ни на ком из нашей семьи никогда не было ни единого пятнышка. С шестилетнего возраста дети должны были учиться управляться с утюгом. Это все было неотъемлемой частью твердо установленного распорядка, который помогал управляться с таким количеством детей — и потенциального хаоса.
Когда в 2007-м я переехал в Англию для участия в британском сериале «Big Brother», все смеялись над тем, насколько воинственно я был настроен против микробов; я постоянно спрашивал моих соседей, помыли ли они руки перед тем, как готовить еду. Моя жена, Халима, к этому привыкла. Она называет меня «микробофобом», и мне трудно это отрицать. До сегодняшнего дня я стараюсь не прикасаться к дверным ручкам в публичном туалете, потому что я знаю, как много людей дотрагивались до них, не помыв руки. Я стараюсь не касаться перил на лестницах и на эскалаторах. Я всегда использую салфетку или платок, чтобы взяться за ручку насоса, когда заправляю свою машину. Я всегда протираю спиртом дистанционные пульты в номерах гостиниц, прежде чем начаться пользоваться ими.
И Майкл был таким же. Иногда я замечал, что ему неприятно подписывать автографы чужими ручками, не говоря уже от тех случаях, когда толпа фанатов окружала его плотным кольцом. Но в основном его нервозность была связана с теми микробами, которые передаются по воздуху. Люди издевались над ним из-за того, что он носит хирургическую маску. Строили догадки, что он пытается скрыть следы пластических операций, но я всегда улыбался, когда видел в статьях упоминания о маске, понимая, что Майкл просто переживает о своем здоровье. И все это было связано с нашими детскими страхами — Майкл боялся заразиться. Должно быть, в те времена он был угнетен чем-то или чувствовал, что его иммунная система ослабла. Так же как и у меня, у него в жизни были невидимые враги — микробы. В конце концов, каким бы ни было происхождение хирургической маски, которую он носил, позже она стала просто аксессуаром, позволяя ему «прятаться», иметь хотя бы такую минимальную защиту, когда на тебя неотрывно смотрят тысячи глаз; это была защита своего личного пространства.
Сколько я помню, Мама постоянно была беременной. Перед моими глазами стоит картина, как она тяжело идет по улице, неся в обеих руках два пакета продуктов из магазина или одежды из секондхенда. Между 1950 и 1966 она родила девять детей. Это мало соответствовало тому плану, который был у них с Джозефом, когда они поженились. Они хотели иметь максимум троих.
Моя сестра Риби родилась первой, потом Джеки (1951), Тито (1953), я (1954), Ла Тойя (1956), Марлон (1957), Майкл (1958), Рэнди (1961) и Дженет (1966). Нас было бы 10, но еще один наш брат Брэндон, появившийся на свет вместе с Марлоном, умер при родах. Вот почему на прощании с Майклом в 2009 году Марлон сказал: «Прошу тебя передать моему брату-близнецу Брэндону объятие от меня». Близнецы до конца жизни сохраняют связь между собой.
Будучи детьми, мы получили достаточно объятий от нашей матери. Вопреки сложившемуся мнению, что у нас было суровое, несчастливое детство, наша семейная жизнь была полна любви, так как Мама всегда обнимала и целовала нас, и говорила о том, как сильно она нас любит. Мы до сих пор чувствуем силу ее любви. Я был настоящим маменькиным сынком, так же как и Майкл, и наше поклонение ей началось с ревности, которая существовала между мной, ним и Ла Тойей. Мы боролись за то, чтобы занять место на диване с двух сторон от Мамы, прислониться к ее ногам или ухватиться за ее юбку. Ла Тойя делала все, что могла, чтобы отпихнуть меня подальше.
Когда мамы не было дома и мы, братья, дрались между собой, мы умоляли, чтобы она нас не выдавала. «Обещай, что ты не скажешь Маме. Поклянись!»
«Клянусь, — говорила она очень убедительно. — Я ничего не скажу!» Но как только Мама переступала порог, все обещания тут же забывались и начиналась драматическая сцена. «Мама, а Джермейн дрался!» Мы хотели проучить ее, потому что она ябедничала на всех. Она всегда потихоньку за нами подглядывала, собирая компромат, чтобы позднее все доложить Маме. Дело было даже не в том, что ей доставляло удовольствие причинять мне неприятности, просто она хотела побыть в маминых любимчиках, пока я был отстранен в виде наказания. Но, несмотря на все ее усилия, в другое время я все-таки оказывался победителем, потому что я всегда был «маминым котиком», как говорила Риби.
«Это он — мамин любимчик!» — говорил Майкл, несколько преувеличивая, потому что, без сомнения, он тоже им был.
Я не чувствовал себя каким-то особенным, но был случай, когда я чуть не умер; это случилось, когда Мама была беременна Майклом. Мне было 3 года, когда я решил, что это хорошая идея — съесть пакет соли, потом у меня отказали почки, и я попал в больницу. Я ничего не помню об этом происшествии. Я был крепким ребенком, но тогда я провел в больнице три недели. Мама и Джозеф не могли приходить ко мне каждый день. Когда они приходили, нянечка рассказывала, что я постоянно орал что есть мочи и звал их. А потом они опять уходили, и я снова стоял в кровати, вопя. Я даже рад, что не помню маминого лица в тот момент, когда она должна была уходить. Она говорила, что это было «самым ужасным чувством».
Наконец меня выписали домой, но думаю, что именно после этого случая я стал таким плаксой и чрезмерно привязчивым — я боялся, что такое может произойти снова. В мой первый день в школе я выскочил из класса и побежал по коридору к дверям, чтобы догнать свою Маму. «Ты должен быть здесь, Джермейн… Ты должен ходить в школу», — сказала она спокойно и мягко, и ее голос вселил в меня уверенность, что все будет хорошо. Ее великодушие брало начало в религии, вера означала для нее самодисциплину и давала уверенность в справедливом устройстве мира. Конечно, у нее были свои слабые места, но ее спокойная уверенность действовала лучше всего в любой трудной ситуации.
Она много натерпелась из-за нас, за свою жизнь она была беременна в общей сложности 81 месяц. Но и в такое время она была прекрасна, у нее были волнистые черные волосы и самые чистейшие домашние платья, она красила губы ярко-красной помадой, оставлявшей отметины на наших щеках. Мама была для нас словно луч солнца в доме на Джексон-стрит, 2300.
Когда она уходила на свою работу на полставки в универмаге «Сирз», мы не могли дождаться ее возвращения. Я чувствовал тепло по мере того, как она приближалась к входным дверям, пробираясь через глубокий снег, потому что зимы в Индиане были снежными. Она стояла там, топая ногами на коврике, чтобы отряхнуть снег, и тряся головой. Потом Майкл — он подрос и стал еще проворнее — бежал и обхватывал ее, просовывался под ее руку, а за ним бежали я, Ла Тойя, Тито и Марлон. Перед тем, как мы забирали у нее пальто, Мама вытаскивала руки из карманов — и там всегда было лакомство, два пакетика горячего жареного арахиса.
Между тем, Джеки и Риби прибирали на кухне, чтобы Мама могла начать готовить ужин для Джозефа, чтобы он успеть к тому времени, когда тот придет с работы. Мы всегда называли его Джозефом. Не отец, не папа и не папочка. Просто «Джозеф». Он сам так хотел. Он считал, что так проявляется уважение.
Был когда-то детский стишок про старую женщину, которая жила в ботинке, «у нее была куча детей, и она не знала, что делать». При такой большой семье и стесненных жилищных условиях, это кажется лучшим описанием нашей жизни, потому что наш домик на Джексон-стрит, 2300, был не больше, чем коробка для обуви. Девять детей, двое родителей, две спальни, одна ванная комната, кухня и гостиная, где все теснились на площади 30 футов в ширину и 40 в длину. Снаружи это был похоже на домик, каким его рисуют дети: входная дверь, окно рядом с ней и труба, торчащая сверху. Этот дом, простроенный в 1940 году, был обшит деревянными досками и увенчан покатой крышей, слишком ненадежной для настоящей крыши; мы не сомневались, что ее унесет при первом же торнадо. Наш дом смотрел на угол Джексон-стрит — туда, где она в виде буквы Т встречалась с 23-й улицей.
От входной калитки короткий путь вел по дорожке, пересекавшей маленький газон, к тяжелой входной двери, когда она захлопывалась, сотрясался весь дом. Один шаг внутрь, и гостиная — коричневый диван, где спали сестры, дальше, слева, кухня и кладовка. Прямо вперед шел коридорчик, длиной примерно в два больших шага, ведущий в спальню мальчиков, направо, и наших родителей, налево, он упирался в двери ванной.
Джексон-стрит была частью тихого района на окраине, граничащего на юге с шоссе Interstate-80, которое тянется через весь континент, и с железной дорогой на севере. Наш дом было легко найти, ориентиром служила Средняя Школа Теодора Рузвельта и спортивная площадка. Ее внешним забором из натянутых цепей оканчивалась 23-я улица, открывая вид на беговую дорожку слева, тут же, справа, было бейсбольное поле и небольшая трибуна на дальней стороне. Джозеф говорил, что мы были счастливчиками, имея такой дом. Другим в нашем районе повезло меньше. Мы никогда не считали себя бедняками, ведь люди, которые жили в районе Делани Проджектс — мы видели его с нашего заднего двора через стадион, по другую сторону от средней школы — жили в съемных домах, построенных государством по типовому проекту. «В любом случае это хуже, чем иметь собственный дом, мало ли что может случиться», — говорили у нас в семье. В общем, лучший способ описать нашу ситуацию: постоянно не хватало денег, чтобы купить хоть что-нибудь новое, но мы как-то выкручивались и выживали.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 6 |

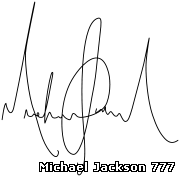
Новосибирск
| Мама приспособилась делать запасы еды, чтобы ее хватало надолго: в черных семьях холодильник всегда был важнее, чем машина или телевизор. Сделать большой запас еды, заморозить, разморозить, съесть. Мы часто ели одно и то же много-много дней подряд: вареная фасоль и суп с фасолью, цыпленок, цыпленок и еще раз цыпленок, бутерброд с яйцом, макрель с рисом. И мы ели так много спагетти, что я до сегодняшнего дня не могу смотреть на вермишель без отвращения. Мы набалтывали себе напиток из пакетиков «Кулэйд». Мы даже выращивали свои собственные овощи, когда ближайший общественный сад выделял Джозефу участок, где мы сажали стручковую фасоль, картошку, черные бобы, капусту, свеклу… и арахис. С раннего возраста мы научились выращивать овощи вместе с арахисом, оставляя достаточно пространства между рядками, чтобы они могли свободно расти. Если мы жаловались — и мы часто делали это — что грязь въедается в наши руки и коленки, Джозеф напоминал нам, что его первой работой, когда он был подростком, была работа на хлопковых плантациях, «где каждый день он собирал по 300 фунтов». Он говорил Маме, что она была «классной, лучшей поварихой во всем городе!» И действительно, каждый день, что бы ни случилось, накрытый стол ждал его, как только он ступал на порог. Она содержала дом в безупречной чистоте. Все всегда сияло. Он считал ее идеальной женой.
Он никогда не ругал Риби, потому что она выполняла часть обязанностей по дому вместо мамы, когда мама работала — готовила еду, убирала в кухне и в доме, и все остальное. Риби была самой старшей сестрой, превратившейся в няньку для младших детей, и она старалась быть похожей на Маму — строгой, но заботливой, методичной, ничего не упускающей из виду. Если я вспоминаю Риби, я всегда вижу ее, стоящей на кухне, она что-то готовит или печет для нас всех. Но при этом она была и первой из детей, кто проявил свои способности. Если верить Джозефу, она принимала участие в конкурсах танцев. Она и Джеки танцевали дуэтом и приносили домой грамоты и призы.
Мама работала по будням, а иногда и по субботам, кассиром в «Сирз». Она не могла позволить себе устроиться в магазин на полный рабочий день. Когда она получала зарплату, часть денег всегда клала в банк под проценты. Мы, бывало, ходили вместе с ней и видели, как мама отдает деньги в окошко и уходит с пустыми руками. Это казалось непонятным. Еще много раз в жизни мы сталкивались с вещами, которые мы не в силах были понять. Но не Мама. Она просто шла по жизни с верой в Бога. И если у нее когда-нибудь выдавался момент, чтобы присесть, она читала Библию.
В 2 года она заболела полиомиелитом, который привел к частичному параличу, после этого до 10 лет она ходила на деревянных костылях. Я не знаю, насколько сильно она страдала из-за этого, но она перенесла несколько операций, часто пропускала школу и на всю жизнь осталась хромой, потому что одна нога стала короче, чем другая, но я никогда не слышал, чтобы она жаловалась. Вместо этого она всегда говорила, как благодарна, что ей удалось перенести болезнь, которая убила многих других. Она мечтала стать актрисой, но из-за болезни, сделавшей ее инвалидом, у нее не было шансов. Когда она была подростком, ей пришлось вынести немало жестоких насмешек со стороны других детей, и она стала неуверенной в себе и очень стеснительной. Однажды, когда она только познакомилась с Джозефом, ей было 19, они пошли на танцы. Он пригласил ее на медленный танец, обнял и вдруг почувствовал, что она вся дрожит.
— Что случилось, Кэйт? — спросил Джозеф.
— На нас все смотрят, — ответила она, опустив голову и не смея поднять глаза.
Он оглянулся, они были единственной парой на танцполе. Он заметил, что люди рассматривают их и делают замечания за их спиной, судача о том, что у мамы одна нога короче, что ее каблуки разной высоты, чтобы помогать ей сохранять равновесие. Она всегда испытывала ужас перед вечеринками и незнакомыми людьми, но Джозеф проигнорировал взгляды и обратил все в шутку. «Мы здесь самая крутая пара, Кэйт, — сказал он. — Давай танцевать дальше».
Мама переехала из Алабамы в Индиану еще ребенком, когда Папа Принц получил работу на сталелитейном заводе. Она мечтала, что в один прекрасный день она встретит музыканта, так что Джозеф, который играл на гитаре, оказался воплощением мечты. Их роман продолжался в течение весны и лета, а потом они поженились. Первое «свидание» было случайным, на улице. Точнее сказать, мама была на улице, а Джозеф сидел дома возле окна, когда она проезжала мимо на велосипеде. Они обратили внимание друг на друга, и потом она несколько раз снова проезжала по этой дороге. В один из дней он не выдержал, вышел на улицу и представился. После этого они начали встречаться, ходить в кино и на вечеринки с танцами. Кэти Скруз — девушка с золотистой кожей, такая робкая, что она боялась взглянуть кому-то в лицо — влюбилась в Джозефа Джексона — тощего, дерзкого рабочего парня. В ноябре 1949 года они пошли к мировому судье и за 8,5 тысяч долларов, вложив свои сбережения и заняв денег у отчима матери, купили дом в Гэри, где и прошло наше детство.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 7 |

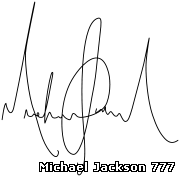
Новосибирск
| Когда в семье их стало уже не трое, а четверо, потом пятеро и так далее, родители начали откладывать немного денег из заработка матери в надежде, что однажды Джозеф сможет пристроить к дому еще одну спальню. Штабель кирпичей на заднем дворе служил постоянным напоминанием о маминой мечте о большем и лучшем жилище.
У меня сохранилось множество разных воспоминаний о нашем маленьком доме. Из-за тесноты — мы жили буквально на головах друг у друга — мы испытывали много неудобств, но это также давало чувство единения и близости. Кроме того, что мы были одной семьей, мы действительно были очень привязаны друг к другу. Семья давала нам силу. Это было привито нам с пеленок. Это было причиной того, что мы вместе двигались к общей цели. Немногие в Гэри могли гордиться такой семейной сплоченностью. Это был рабочий городок, построенный в 1906 году силами афроамериканских эмигрантов, которые помогли превратить северо-западную часть территории Индианы из пустынных песчаных дюн в центр национальной металлургической промышленности.
Вспоминая прежние дни, старики часто рассказывали о кровавом поте и тяжком труде. В Гэри никто не боялся тяжелой работы. «Если ты работаешь упорно, ты сможешь чего-то достичь — говорил Джозеф. — Ты получаешь то, чего заслуживаешь». В глазах его прадедов получать плату за работу и владеть домом — было уже «достижением», но он всегда мечтал о том, чтобы его дети достигли большего. Отец научил нас плыть против течения и не останавливаться на достигнутом. Он хотел, чтобы у нас была мечта и чтобы мы добивались ее.
Почти 90% населения Гэри и много людей из других городов Индианы работали на сталелитейном заводе «Инлэнд Стил», расположенном в получасе езды от Восточного Чикаго. Джозеф был оператором крана, перемещавшего стальные слитки из одного цеха в другой. Это была тяжелая работа с суровыми условиями, одна смена продолжалась от восьми до десяти часов. Сидя в стеклянной кабине наверху крана, он вспоминал свою юность, проведенную в Дармотте, на юге от Литтл-Рок, в Арканзасе. Когда он был юношей, он очень любил ходить в кино на немые фильмы, иногда ему даже казалось, что он мог бы стать первым черным актером-звездой. Провести всю свою жизнь на заводе не было его мечтой. Это был рабский труд, напоминавший труд многих поколений черных людей до него. «Я должен двигаться вперед, а не возвращаться к рабству», — думал он.
До встречи с мамой, сразу после приезда в Индиану, он работал на железной дороге. Потом устроился на завод и работал на пневматическом молоте в доменном цеху. «Жарко?! Это не то слово. Люди теряют сознание, — рассказывал он. — Мы работали по 10-минут, сменяя друг друга, больше не выдержишь, там пол раскаляется докрасна». Он был тогда кожа да кости. Сколько бы он ни съел, он не мог набрать ни фунта, потому что эта работа высасывала из него все соки. Ну и обмен веществ, который унаследовало большинство его детей, особенно, Майкл. Но это были еще цветочки по сравнению с тем периодом, когда Джозефа перевели в уборщики окалины возле горна. Его худоба пришлась там весьма кстати: его опускали в корзине на канате в трубу дымохода диаметром три фута. Когда я слышал эти рассказы, я думал, что работа крановщика была просто классной по сравнению с этой.
Я никому не позволю говорить, что Джозеф не знал, что такое тяжелая работа. Он был человеком, который брался за любую работу — физически и морально сильным — и он был готов работать как проклятый, когда жизнь бросала ему вызов. Думаю, что за это он вправе был требовать уважения. С ранней юности он работал на низкооплачиваемой работе под чужим началом, его предки со стороны матери были рабами, но у него было чувство собственного достоинства, и от своей семьи он требовал уважения. Со своей стороны он прекрасно знал, что такое ответственность. У него была большая семья, и он работал сверхурочно, чтобы принести домой лишнюю копейку. Когда появился Майкл, он пошел на вторую работу, начал подрабатывать в сменах на консервном заводе.
Мы были еще детьми, но мы чувствовали, что он изо всех сил борется, чтобы сводить концы с концами. Вместе наши родители получали примерно 75 долларов в неделю. Они никогда не заставляли нас подрабатывать, но зимой Тито и я по своей инициативе ходили к соседям убирать снег, за это нам давали что-то из продуктов. Мы всегда знали, когда Джозеф получил зарплату, потому что в эти дни на столе появлялась дополнительная буханка хлеба и свежее мясо. Несколько раз Джозефа увольняли с завода по сокращению, но потом принимали обратно. Во время таких перерывов он нанимался убирать картофель. Мы всегда знали, когда на заводе опять произошло сокращение, потому что все, чем мы питались в эти дни, была картошка — жареная, вареная, тушеная, печеная.
Для многих семей работа на «Инлэнд Стил» была пределом мечтаний. Как говорили, в Гэри было только три места, куда можно податься: сталелитейный завод, тюрьма и кладбище. Последние два варианта были связаны с бандами, которые третировали местных жителей. В любом случае судьбе, казалась, было на нас наплевать, но Джозеф был полон решимости это изменить. Каждый день на работе он обдумывал план, как устроить нам всем побег.
Джозеф был одним из шести детей — четверо мальчиков и две девочки. Больше всего он любил свою старшую сестру, Верну Мэй, которая присматривала за ним с самого рождения. Наша сестра Риби напоминала ему Верну, он говорил, что та была такой же ответственной, доброй, замечательной маленькой хозяйкой, мудрой не по годам. Джозеф вспоминал, как Верна Мэй заботилась об остальных детях, как эта семилетняя девочка читала ему и его братьям Лоуренсу, Лютеру и Тимоти сказки на ночь, сидя под масляной лампой. Но когда она заболела, Джозеф ничем не мог ей помочь. Врачи не смогли даже поставить диагноз, чтобы ее спасти. Верна Мэй не жаловалась. «Все хорошо. Я поправлюсь», — говорила она. Но сквозь двери спальни, где она лежала, Джозеф видел, как жизнь покидала ее. Она не смогла побороть болезнь и умерла. Джозеф горевал, не в силах смириться с потерей. Насколько я знаю, что это был последний раз, когда он плакал. Ему было 11 лет.
Но я и Майкл, мы были всего лишь детьми, и мы ненавидели его за то, что он был с нами так суров. Никто из детей не мог припомнить случая, чтобы он открыто показал нам свою любовь. Даже после порки, он никогда не проявлял к нам снисхождения — он лишь дразнил: «Чего ты тут хнычешь?»
Все подростковые годы Джозеф провел, тоскуя по сестре. На ее похоронах, когда повозка, которая до этого везла гроб, привезла их обратно домой, он кричал, что больше никогда не хочет видеть, как кого-то кладут в могилу. И Джозеф сдержал свое слово, он действительно никогда не ходил ни на чьи похороны. До 2009 года.
В школе у Джозефа была очень строгая учительница. «Почтение к учителям» было буквально вбито в него, потому что его отец Сэмюэль, директор средней школы, добивался железной дисциплины при помощи порки. В конце концов, учительница так запугала Джозефа, что он начинал дрожать, лишь только она произносила его имя. Я слышал историю о том, как однажды она вызвала его к доске читать перед классом. Он прекрасно умел читать, но буквы прыгали у него перед глазами и от страха он не мог вымолвить ни слова. Учительница спросила его снова. Когда он опять не смог ответить, наказание последовало незамедлительно: деревянная линейка ходила по его голой спине. Эта штука имела специальные отверстия, чтобы сдирать кожу. И при каждом ударе учительница напоминала, почему его наказывают: он не подчинился, когда ему было приказано читать. Он ненавидел ее за это, но при этом все равно уважал. «Потому что я получил хороший урок, она желала мне добра», — говорил он.
Точно так же он думал и тогда, когда его порол Папа Джексон. Так он и рос — с мыслью, что для того, чтобы заставить себя уважать или слушаться, прежде всего нужно заставить себя бояться. Эти уроки оставили на нем неизгладимый отпечаток.
Прошло несколько недель, та же учительница устроила конкурс талантов среди тех, кто умел рисовать, делать поделки, писать стихи или рассказы, или ставить сценки. Джозеф не умел рисовать, он не был силен в писательстве, недаром он больше любил немое кино. Но ему очень нравилось как его отец пел “Swing Low, Sweet Chariot”, поэтому он решил спеть эту песню. Однако выйдя на сцену, он так смутился, что голос его дрожал и срывался — весь класс начал смеяться. Он был унижен и стоял, опустив голову и ожидая следующих насмешек. Когда учительница подошла к нему, он весь сжался. «Ты очень хорошо спел, — сказала она. — Они смеются, потому что ты нервничал, не потому что ты плохо поешь. Молодец».
По дороге из школы домой Джозеф думал: «Я им всем еще покажу», с тех пор начал мечтать «о жизни в шоу-бизнесе». До недавнего времени я не знал этой истории. Он откопал ее из своего прошлого, пытаясь как-то выразить свои чувства после прощания с Майклом. Я даже не думал, что мы так мало знаем об истории семьи Джексонов, он почти ничего нам не рассказывал. Майкл признался однажды, что он совсем не знает Джозефа. «Очень печально, когда ты не можешь понять собственного отца», — писал он в 1988 году в своей автобиографии «Лунная походка».
Наверное Джозеф виноват в этом сам. Слишком трудно было пробиться через барьеры, которые он выстроил вокруг себя, возможно, из страха потерять уважение или из желания упрочить в семье свою роль лидера. Никто из нас не сможет вспомнить его держащим на руках ребенка, никто не вспомнит его объятия или его слова: «Я тебя люблю». Он никогда не дурачился с нами и не укладывал нас в кровать; у нас никогда не было доверительных разговоров о жизни, как у отца с сыновьями. Мы помним страх и запреты, тяжелую работу и его команды, но не любовь. Мы знали, что наш отец таков, каким он был: он требовал от своей семьи уважения и добивался его любыми способами.
Мы понимали, что на него наложило отпечаток патриархальное воспитание, и сколько бы Майкл ни восставал против Джозефа, в душе он всегда жалел его и не осуждал. Мне жаль, что он уже никогда не узнает историю, которой я сейчас поделился с вами. Думаю, многие люди знают своих родителей только как «мать» и «отца», не понимая их как людей, что на самом деле является более важным. Но если мы будем больше узнавать о том, какими были наши родители в молодости, мы сможем лучше понять, почему они такими стали. Мне хочется верить, что рассказы о школьных днях Джозефа смогли бы многое объяснить.
Не проходило и дня, чтобы Джозеф не вспоминал о Калифорнии: он был уже сыт по горло жизнью в Индиане. Поэтому его мечты устремлялись к закатам над Тихим океаном и знаку Голливуда, стоящему на холмах. В 13 лет он ездил из Арканзаса в Окленд, расположенный в бухте Сан-Франциско, а оттуда поездом в Лос-Анджелес. Он уехал со своим отцом, который бросил учительство и нанялся на верфь, когда узнал, что мать Джозефа, Кристел, изменяла ему с военным. Вначале Сэмюэль Джексон уехал один, но через три месяца, после умоляющего письма от сына, он вернулся и велел ему собираться. Джозеф сделал «трудный выбор» и поехал на запад. Затем началась переписка между Джозефом и его матерью. Должно быть, наш отец и в том возрасте мог быть убедительным, потому что несколько месяцев спустя Кристел Джексон бросила своего нового мужчину и вернулась к мужу, с которым она недавно развелась.
Сложилось так, что через год она снова уехала на восток, чтобы начать в Гэри новую жизнь с другим мужчиной. Я предполагаю, что Джозеф чувствовал себя канатом, который его родители перетягивают между собой. Возможно, как раз оттуда берет начало его навязчивая идея насчет «единства семьи». Все, что я знаю — он приехал в Гэри один, проделав весь путь от Окленда на автобусе. По прибытии он увидел «маленький, грязный, уродливый» городок, но его мать была там, и я думаю (читая между строк), что там он почувствовал себя «первым парнем на деревне». Он прибыл не из Арканзаса, а из Калифорнии, и его рассказы о жизни на Западном побережье пользовались большим успехом у местных девушек. В общем, в возрасте 16-ти лет Джозеф окончательно переехал к матери в Индиану, но при этом держал в голове план когда-нибудь вернуться в Калифорнию. «Мы поедем на Запад», — часто говорил он нам, продолжая рисовать в своем воображении это великое путешествие.
Лицо Джозефа вытянулось и покрылось морщинами, годы тяжелой работы оставили след. У него были густые брови, казалось, что они постоянно нахмурены, и колючие глаза, которые пронзали тебя насквозь. Когда мы были детьми, ему достаточно было лишь взглянуть, чтобы привести нас в ужас. Но разговоры о Калифорнии смягчали его черты. Он рассказывал о «золотом калифорнийском солнце», пальмах, Голливуде, и утверждал, что Западное побережье «это лучшее место для жизни». Никакой преступности, чистота на улицах, масса возможностей преуспеть. Мы смотрели по телевизору сериал «Маверик», и он указывал те улицы, которые помнил. Постепенно этот город стал для нас прообразом рая, отдаленной планетой — поехать в ЛА было для нас все равно, что слетать на Луну. Когда солнце садилось в Индиане, мы говорили друг другу: «Скоро солнце будет садиться в Калифорнии». Мы всегда знали, что это лучшее место и лучшая жизнь, чем то, что мы имели.
Задолго до рождения Майкла, когда мама была беременна мною, Джозеф впервые попытался осуществить свой план. Как гитарист, он организовал блюз-бенд под названием «Фальконз» (Соколы) вместе со своим братом Лютером и несколькими друзьями. К тому времени, когда я появился на свет, у них была своя отрепетированная программа, с которой они выступали на местных мероприятиях и вечеринках, чтобы положить по паре долларов в свои карманы. Работа на кране была доведена до автоматизма, поэтому во время смены голова Джозефа была занята сочинением песен, слова к ним он придумывал на ходу.
Джозеф говорил, что в 1954-м, в год моего рождения, он написал песню, которая называлась «Тутти-фрутти». Через год Литтл Ричард выпустил свою песню с таким же названием. Пока мы росли история о том, как Литтл Ричард «украл» песню нашего отца, стала легендой. Конечно, это было неправдой, но важным было то, что черный мужчина из городка у черта на куличках смог создать песню, которая переопределила музыку — «звук зарождающегося рок-н-ролла». Эта история запала глубоко в наше сознание, чтобы позднее дать ростки.
Я почти не помню репетиций «Фальконз» — они определенно были не такими, как наши! Но я хорошо помню дядю Лютера — он всегда улыбался — который приходил с парой банок пива и своей гитарой, как он играл риффы с Джозефом, а мы сидели вокруг, впитывая в себя музыку. Дядя Лютер играл блюзовый квадрат, а Джозеф вставлял свои соло между его гитарой и гармошкой. Иногда мы засыпали под эти звуки.
Музыкальная мечта Джозефа разбилась, когда одного из их музыкантов, Пуки Хадсона, переманили в новую группу, после этого «Фальконз» распались. Но приходя домой, Джозеф по-прежнему расчехлял свою гитару, а потом прятал ее в обычное место, под задней стенкой платяного шкафа в спальне. Тито страстно хотел научиться играть на гитаре, он просто глаз не спускал со шкафа, будто это был сейф набитый золотом; но мы знали, что это предмет особой гордости Джозефа, поэтому никто не решался ее трогать. «Не смейте даже думать о том, чтобы взять мою гитару!» — предупреждал он всех нас, уходя на работу
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 8 |

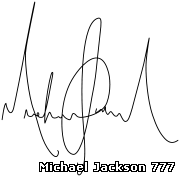
Новосибирск
| Все мальчики жили впятером в одной спальне — лучшая костюмерная, какая когда-либо у нас была. Несмотря на тесноту, мы росли лучшими друзьями. Братская привязанность крепла с каждым годом. Уж мы-то точно знали все друг о друге. «Помнишь, какими мы были. Помнишь, как мы жили вместе. Помнишь, как мы росли».
Или, как говорил мне позднее Клайв Дэвис (легендарный американский продюсер, бывший президент Columbia Records, в настоящий момент один из исполнительных директоров Sony Music – прим. перев.), «Кровь — не вода». Мы были неразделимы в Гэри, постоянно вместе, день и ночь. Мы делили металлическую трехъярусную кровать. Ее длина была такой, что она занимала всю дальнюю стену нашей комнаты, а высота такой, что от верхнего яруса, где валетом спали Тито и я, оставалось всего четыре фута до полотка. Посередине спали Майкл и Марлон, а Джеки в самом низу, один. Джеки был единственным из братьев, кто не привык просыпаться и видеть чужие пятки возле своего лица. Девочки, Риби и Ла Тойя, спали на диване в гостиной (позднее к ним присоединился брат Рэнди и малышка Дженет), так что каждая комната был набита под завязку. Вообразите, что у Риби, старшей из сестер, никогда не было собственной комнаты!
Все братья проводили много времени в нашей спальне, с ее единственным окном, выходящим на 23-ю улицу. Каждый вечер был похож на пижамную вечеринку с ночевкой. Мы всегда ложились примерно в одно и то же время, в полдевятого или в девять вечера, не считаясь с возрастом, и устраивали бои подушками, боролись на руках или бурно обсуждали, что мы собираемся делать на следующий день, пока все не засыпали.
— У меня есть коньки, так что я пойду кататься!
— У меня бита и мяч, кто со мной играть?
— Давайте построим карт. Кто будет участвовать?
Мы снимали простыни с кровати и кидали матрасы на пол, и строили вокруг греческий пантеон из книг, закладывая их листы так, чтобы получилась крыша. Нам нравилось спать на полу в наших самодельных «берлогах». Мы любили спать на полу, даже когда не строили берлоги — тогда мы представляли, что мы поехали в детский лагерь. По утрам мы все просыпались со звоном будильника. «Ты встал, Джермейн?» — звал меня Майкл громким шепотом. «Джеки?» От Джеки дождаться ответа было трудно, потому что он всегда любил поваляться в кровати.
Потом наступал хаос из-за «15-минутного правила ванной комнаты». Когда один брат или сестра вылетал оттуда, другой тут же влетал, я прекрасно помню мамин крик: «ДЖЕРМЕЙН! Твои 15 минут истекли!»
Я любил наши утра. Мне нравился хаос в кухне и спокойные минуты в спальне, когда мы только просыпались. Мы часто начинали утро с того, что проснувшись, лежали в кровати и пели. Мы всегда пели — и тогда, когда красили дом, стирали, подстригали газон или гладили белье. Наши выступления развлекали нас во время нудной работы, в то время мы перепевали хиты, которые слышали дома: Рэя Чарльза, Отиса Реддинга, «Smokey Robinson and the Miracles», и Мейджера Ланса (его клавишник называл себя Регги Дуайтом, теперь он более известен как Сэр Элтон Джон).
Майкл часто упоминал «веселье» и «розыгрыши», которые царили в нашей тесной спальне. Я думаю, он тосковал об этих днях; ему снова хотелось иметь братьев, с которыми каждый вечер можно было устраивать подушечные бои. Он всегда говорил, что он скучал по нашей большой компании. Будучи уже взрослыми, когда мы приезжали на семейные встречи или собирались вместе с братьями, мы все обычно набивались в самую маленькую комнату. Мы привыкли к этому за годы нашей жизни в Гэри, хотя кому-то, возможно, покажутся странными наши встречи в самой маленькой комнате таких домов, как в Неверленде или в Хейвенхерсте. Но в каждом из нас это возрождало чувство близости и доверия между нами. Это было для нас естественным, это было наши «чувством дома».
Было еще кое-что, чего мы не узнали, пока не стали взрослыми: Мама и Джозеф лежали в своей комнате прямо напротив нашей и через стену прислушивались к нашему пению. Младшим участником хора был 3-летний Майкл, а старшим 11-летний Джеки. «Мы слышали, как вы пели по вечерам, и мы слышали ваше пение по утрам», — рассказывала Мама. Но я не думаю, что уже тогда Джозеф смог расслышать в нашем пении драмбит его калифорнийской мечты. Ничего не происходило, пока однажды Тито не порвал струну на его гитаре — зато потом мы пели в течение всей нашей жизни.
Джозеф купил темно-коричневый Бьюик, который выглядел как сердитая акула, готовая напасть. Форма кузова и передние фары, решетка радиатора и V-образный обод на капоте были похожи на страшное лицо, ухмыляющееся и показывающее свои зубы. Я не знаю, все ли машины тех годов издавали такие звуки, но эта машина — в этом она была похожа на Джозефа — рычала очень угрожающе.
Теперь смешно вспоминать, но в те дни эта сердитая «рыба» была нашей сигнализацией, по ее рычанию мы определяли, что наш отец находится в минуте езды от дома. Мы играли на улице, когда один из нас вдруг слышал его машину на расстоянии и кричал: «Быстрее домой! Убирать все, быстро!» Мы бросали все и кидались в дом, быстро распихивая по местам все вещи в нашей комнате, еще быстрее, чем это делала Мэри Поппинс. В спешке мы хватали всю нашу одежду и совали ее одной большой кучей в кладовку или забивали на полку шкафа, не разбирая где и чья. Мы не могли придумать ничего лучшего, Мама сердилась, когда она находила одежду, засунутую под простыни или сваленную комом. Но мы просто старались создать видимость порядка, чтобы у Джозефа не было повода нас наказать. При этом мы знали, что пока мы будем в школе, Мама зайдет в нашу комнату, вытащит это все, аккуратно сложит нашу одежду, наведет порядок и ничего не скажет.
Она не удивляется, что Майкл и я выросли с привычкой бросать свою одежду на пол там, где мы ее сняли, у нас было оправдание: когда вы растете в тесной комнате в мальчишеской компании, вы понимаете, что как бы вы ни старались, все равно там будет хаос. Со стороны Мамы нам сходили с рук и многие другие вещи. Не поймите меня неправильно, она тоже была строгой: если мы плохо себя вели, она, не раздумывая, могла дать крепкую пощечину. Но там, где Мама имела терпение, Джозеф мигом выходил из себя, особенно, когда он приходил с завода после тяжелой смены. Мы четко усвоили то, что говорила нам Мама: отец — главный в нашем доме, нужно уважать его за то, что он тяжело работает, нужно уважать то, что когда он хочет отдохнуть, наша возня его раздражает.
Стоило ему переступить порог — и воздух наполнял страх, нам казалось, что даже дышать в доме становится тяжелее. Его основное правило было простым: я говорю что-то только один раз, если мне придется это повторить, ты будешь наказан. Детей в семье было много, и хотя бы для одного из нас ему приходилось повторять второй раз. Джеки, Тито и я знали по своему жестокому опыту, что последствия неминуемы. Майкл и Марлон были еще маленькими, но наш страх передавался и им. Когда Джозеф начинал сердиться, ему не нужно было ничего говорить, одного взгляда на его лицо было достаточно. У него на щеке была родинка размером с 10-центовую монетку, она до сих пор стоит у меня перед глазами, совсем близко: если Джозеф впадал в бешенство, эта родинка и все его лицо наливались кровью. За штормовыми облаками тут же начинался шторм, ужасный гром: «ИДИ В СВОЮ КОМНАТУ И ЖДИ МЕНЯ!» А затем следовали молнии; слезы лились из глаз, когда кожаный ремень сдирал кожу. Обычно мы получали по 10 «хлопков». Я называю их «хлопками», потому что таким был звук, который издавал ремень, он хлопал как кнут в воздухе. Я кричал, призывая Бога, Маму, милосердие, и все, что только мог придумать, но Джозеф кричал еще громче, напоминая, зачем он нас наказывает: он добивался дисциплины, мы повторяли те уроки, которые получил он сам в свои школьные годы.
Мы кричали, когда он нас порол — это то, что слышал Майкл с раннего детства, и он видел, когда раздевались в спальне, красные полосы от ремня и кровоподтеки от пряжки. Это вселило в него жуткий страх задолго до того, как он познакомился с ремнем лично. Он любил своих братьев, у него было хорошее воображение, и в его воображении Джозеф выглядел большим извергом, чем он был на самом деле.
Однажды у нас в доме завелась белая крыса, Джозеф поклялся ее поймать, потому что она заставляла девочек визжать от страха. Когда мы слышали жуткий визг, мы знали, что этот грызун снова нанес нам визит. Разгневанный Джозеф не мог понять, откуда она взялась. Тогда он еще не знал, что Майкл нашел себе увлечение на всю оставшуюся жизнь — он полюбил животных.
Тайком для всех он приручил эту крысу, подкармливая ее кусочками салата и сыра. Наверное, можно было бы догадаться: когда Мама визжала, а Джозеф бесился, Майкл был совершенно спокоен, но предпочитал ускользать от них куда-нибудь подальше. Но ему было только три года, кто мог предположить в нем такую хитрость?
Но, в конце концов, он попался с поличным. Этот момент настал, когда Джозеф случайно зашел в кухню и застал Майкла возле холодильника стоящим на полу на четвереньках, он кормил свою крысу.
Стекла затряслись от крика Джозефа «ЖДИ МЕНЯ В СВОЕЙ КОМНАТЕ!»
То, что сделал Майкл в ответ, поразило всех. Он начал убегать. Он начал носиться по всему дому, как испуганный кролик. Джозеф гонялся за ним с ремнем, пытаясь ухватить его за футболку, но мой брат был увертливым и проворным, как маленький вечный двигатель, он извивался и вырывался из его рук, и бежал дальше. Он кинулся в комнату Джозефа, залез под кровать, под самую стену, и сжался в углу, решив, что там пряжка ремня его не достанет.
Я никогда больше не видел Джозефа в такой ярости. Он бросил ремень, выволок Майкла из-под кровати и швырнул его об стену так сильно, что задрожал весь дом.
Мне страшно вспоминать ту жуткую тишину, которая повисала обычно в нашем доме после подобных эпизодов, она нарушалась только маминым успокаивающим бормотанием и тихими рыданиями в подушку того из нас, кто был избит на этот раз.
У Майкла был сильный характер, он был очень упрямым, поэтому он был самым непокорным. Риби вспоминала, что когда ему было 18 месяцев, он швырнул свою бутылочку с молоком Джозефу в голову. Когда в 4 года Майкл в ярости запустил в Джозефа ботинком, тот, должно быть, вспомнил и бутылочку — тогда Майкл получил за два раза, по совокупности.
Страх Майкла перед поркой всегда заставлял его убегать. Иногда он заползал глубоко под родительскую кровать и забивался там по центру под стену, хватаясь за пружины кровати, от которых его невозможно было отцепить. Это была эффективная тактика, потому что после получаса попыток вытащить его оттуда Джозеф был слишком измотан или просто немного успокаивался. В результате Майклу чаще удавалось отсидеться, чем получить ремня.
Страсть Тито к гитаре не проходила сама по себе. Когда Джеки и я начали разучивать песни, которые мы слышали по радио, он стал ходить на уроки гитары в школе. Но он не мог заниматься дома, не на чем было играть. И однажды, несмотря на все запреты Джозефа, он тайком взял гитару отца из шкафа. За то, чего он не знает, он не сможет его наказать, не так ли?
Тито пользовался моментом, когда Джозеф был на работе. Он учился играть, а мы начали петь под его аккомпанемент. Несколько раз Мама заходила в комнату и заставала нас за этим занятием, но заметив, как сильно мы этим увлечены, она делала вид, что ничего не замечает. Она была гораздо терпимее, чем отец. В один из дней Тито снова взял гитару, и мы начали разучивать песню группы «Four Tops». Тито сидел, подбирая аккорды, а Джеки и я напевали вполголоса, когда внезапно мы услышали резкий звон. Тито весь побелел, когда понял, что одна из струн лопнула. «Ох, что же нам теперь делать!» — завопил Джеки, отчасти от разочарования, отчасти от страха.
Мы поставили сломанное сокровище обратно в шкаф, и сидели в нашей спальне, как мыши, когда услышали, что подъезжает отцовская машина. Часовой механизм начал тикать. Каждый громкий шаг по линолеуму отдавался в наших ушах, мы ждали неминуемого взрыва. Один… два… три… «КТО… ИСПОРТИЛ… МОЮ ГИТАРРРУ?» Он орал так громко, что я думал, его услышат даже в Калифорнии. Когда он ворвался в нашу комнату, Майкл и Марлон убежали, остались Джеки, Тито и я, стоящие возле кровати в ожидании того, что произойдет дальше. Мама пыталась вмешаться и взять всю вину на себя, но Джозеф ее не слушал. Мы начали громко рыдать, когда он сказал, что будет пороть нас по всех до тех пор, пока виновный не признается.
«Это был я, — наконец произнес Тито едва слышно. — Я играл на ней». Джозеф схватил его — «…но я умею играть. Я УМЕЮ ИГРАТЬ НА ГИТАРЕ!» — кричал Тито.
Я читал описания этого случая, в которых говорилось, что Джозеф тогда избил его до посинения, но на самом деле все было не так. Вместо этого он остановился, нахмурился и сказал: «Давай, играй. Покажи мне, что ты умеешь!» С одной недостающей струной Тито начал играть, а Джеки и я петь — хотя наш вой сквозь слезы трудно было назвать пением. «Doing The Jerk» Ларкса стала нашей мольбой о помиловании, мы запели ее в два голоса, немного не попадая в тональность, но кажется, все звучало не так уж плохо, потому что Джозеф выглядел удивленным. Мы продолжали петь: мы видели, что его голова слегка покачивается в такт, обычно он делал так, когда он сам играл, а потом он невольно присоединился к нам, тоже начав подпевать. Это нас воодушевило, мы перестали дрожать и начали петь увереннее. Наше пение было слаженным, при этом мы щелкали пальцами. Глаза нашего судьи расширились, а потом сузились, для него эта было одновременно и победа, и поражение. Когда мы закончили петь, он не сказал ни слова, но нам удалось избежать грандиозной порки, о большем мы не посмели бы даже мечтать.
Через два дня Джозеф пришел с работы с красной электрической гитарой и сказал Тито, чтобы он начинал заниматься. Джеки и мне он сказал, чтобы мы были готовы репетировать. Нашей Маме он заявил, что он собирается «поддержать наших мальчиков». Его внимание переметнулось от «Фальконз» к его сыновьям. Мы добились его одобрения, и он хотел использовать то, что нам самим нравилось этим заниматься. Люди говорили, что наш отец «заставлял их петь» или «принуждал мальчиков выступать на сцене», но пение было нашим любимым занятием, и из этого увлечения родился наш выбор. Мы пели задолго до того, как Джозеф решил приделать к нам ракетный двигатель. Мы решили, что станем трио, и мы собирались стать лучшим трио во всем Гэри.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:07 | Сообщение # 9 |

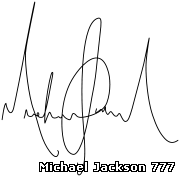
Новосибирск
| Глава 3
Подарок с небес.
Майкл сидел на ковре, зажав между коленями две пустые коробки из-под Куакер Отс. Они скреплены вместе карандашом. Это, объяснил он, его бонго. Несмотря на то, что Майкл еще «слишком мал» и занимает свое место наблюдателя рядом с Марлоном, по нему уже видно - рвется поучаствовать в общем деле. Ему не терпится, он даже отбивает ритм пальцами рук, вносит свой вклад в общее дело. Брат наблюдает за тем, как полный решимости Джозеф передвигает нас троих как шахматы «на сцене», буквально, берет за плечи и передвигает по гостиной.
Тито с гитарой стоит посередине, я – справа. Мы застыли в ожидании дальнейших указаний.
Мама с сестрами, Риби и Ла Тойей, на кухне. Они не вмешиваются. Мама уже понимает то, о чем пока мы не имеем представления: эти сессии – не просто игра, это заявка на серьезный бизнес. Единственный микрофон стоит на стенде в центре комнаты.
Никаких расчесок, бутылочек с шампунем - настоящий микрофон, позаимствован у группы «Фальконз» и передан следующему поколению. «Вы должны учиться работе с микрофоном, не бойтесь его, подержите в руках, играйте с ним», - говорит Джозеф.
«ИГРАТЬ с микрофоном?» Думаю, на наших лицах все написано.
Он ставит пластинку Джеймса Брауна, поднимает звук, берет микрофон, выбрасывает его в левую сторону, затем в правую и вперед – микрофон отскакивает и возвращается. Так вот как играют с микрофоном. «Джермейн, ты слышишь, этот голос, ты слышишь его «звук»? Повтори. В точности повтори.» Он проигрывал нам классические сорокопятки, пластинки, мы должны были слушать их снова и снова, по песне за раз, изучать ее, как она спета, как ее надо исполнять. Я помню, как все время играла «Green Onions» Букера Т. и MGs, и «Night Train» Джеймса Брауна. Джозеф следит за нашими движениями, мы начинаем двигаться, инстинктивно щелкая пальцами. Ему не нравится. «Мальчики, нельзя просто петь и раскачиваться. Надо двигаться с чувством! Вот так....»
Он выходит вперед, звучит трек Джеймса Брауна, отец начинает приседать, раскачивая головой из стороны в сторону. Мы не можем удержаться, хихикаем над его неуклюжими движениями.
«Вижу, вам смешно», - говорит он. «Но я не хочу, чтобы вы выглядели любителями». Мы возвращаемся на наши «места», снова начинаем повторять хореографию.
Наверное, работай мы в классе, над дверью висела бы табличка: «Привыкай Двигаться В Верном Направлении»
А пока мы старательно запоминаем указания Джозефа.
«Вы должны развлекать людей. Будьте динамичны. Отличайтесь. Давайте людям то, что им надо!» Мы старательно изучали все песни, повторяли движения, порой, до пяти часов в день. Так проходили многие месяцы. Мы занимались всегда, когда Джозеф не спал или не работал. «Практика не принесет идеального результата, - твердил он. - Она научит вас систематичности». Мы учились запоминать, но... Иногда не получалось. «Заново... Еще раз... Еще раз, до тех пор, пока не получится так, как надо».
А Майкл все колотит по пустым пачкам. Он колотит и колотит, пока Джозеф не находит ему где-то настоящее бонго, правда, изрядно потрепанное. Мы продолжаем: «Представьте зрителей... Вот они, прямо перед вами... Прочувствуйсте ситуацию... И УЛЫБНИТЕСЬ!»
Из окон нашего дома на Джексон-стрит (а окна выходили на солнечную сторону) были видны площадки, дети играли в тэг-футбол или катались на роликах. Они веселились, смеялись. Однокашники стучали в двери и звали нас на улицу. Джозеф запрещал: «Они заняты, они репетируют». Что, в свою очередь, порождает множество слухов - люди интересовались, задавали вопросы. Бывало, дети заглядывали в окна, cтараясь повнимательнее рассмотреть происходящее внутри, носами прижимаясь к стеклу. Наверное, так начиналась жизнь в «аквариуме». Некоторые из ребят даже стучали в окна и подсмеивались над нами.
«А вас заперли! А вас заперли!» - выкрикивали они и со смехом убегали.
Джозеф занавешивал окна. С улиц в люди не выбиваются. «Сосредоточьтесь», - говорил он. « Вас все время будет что-то отвлекать, сконцентрируйтесь на работе.» Если он мог найти время между сменами на занятия с нами, то и мы выдержим. Мы понимали все без слов.
Со временем способности наши стали раскрываться. Но работа в индустрии развлечений это не просто навыки: это умение привлекать к себе внимание. Мы должны были создать «мистерию Джексонов». Относительно танцевальных движений, они не должны были заучиваться на раз-два-три. «Нельзя просто считать», - говорил он. «Нужно понимать и ощущать, как развивается музыка. Не думайте о числах, думайте о чувствах!»
Когда все только начиналось, Джозеф был терпелив с нами и внимателен. Он понимал, что мы были еще совсем неопытными юнцами и относился к нам со снисхождением. Прогресс виден был все чаще, Джозеф был доволен, в ответ, мы старались, как могли, заслужить его уважение. В гости приезжали родственники, Дядя Лютер и Бабушка Марта, и отец часто просил нас спеть для них. Видно было, что родные радовались и восхищались нами, но ему всегда было мало. «Можно и лучше. Надо лучше!» Да, Джозеф драл с нас семь шкур, но, по крайней мере, за дело, а мы любили свое дело. В отличии от других отцов по соседству он нами занимался. На нас не давили, нас направляли туда, куда мы стремились сами. «Кровь, пот и слезы, мальчики – если хотите стать лучшими, кровь, пот и слезы», - говорил он.
Тито умело справлялся с гитарой, моей сильной стороной был вокал, а коньком Джеки были танцевальные движения, их он оттачивал вдвоем с Риби на конкурсах. Джеки повторял за Джозефом, а мы – за братом, добиваясь синхронности. Нам все удавалось достаточно легко. Кроме совместных сессий с братьями, я занимался и отдельно от них - распевал любимые баллады Мамы: «Danny Boy» и «Moon River» - включал пластинки и выписывал слова.
Джозеф заметил, что у меня не получается выдерживать длительность нот – легкие ребенка не справлялись со сложной задачей.
«Петь надо животом, - cповторял наш учитель по вокалу, хореограф и менеджер. - Представь себе воздушный шар, как он растет, наполняясь воздухом. Так происходит вдох. На выдохе, когда поешь, задержи дыхание и контролируй ноту. Представляй себе волынки». Многие годы я думал о своих легких именно как о воздушных шарах и волынках, техника «живота» научила меня умению дышать и, соответственно, петь.
«Сначала оттачивай мелодию, потом работай со текстом. Запомни ключевые переходы. Попадай в нужные ноты». Голос как мелодия, а мелодия была всем – вот основное правило, которое я выучил на Джексон-стрит, 2300. «Вы должны научиться петь песню без музыки».
Тренировалось даже наше «ухо». А когда мы начали танцевать без подсказок Джеки, без «счета» в головах, стало понятно, что все получается так, как надо. Выступление стало казаться самой естественной вещью на свете.
В детстве к нам часто приезжала Бабушка Марта она жила в Хаммонде (Восточное Чикаго), что находилось в минутах двадцати от нас. Бабушка Марта появлялась не одна, вместе с ней обязательно приезжал и торт весом в целый фунт. К торту прилагались настоящие «бабушкинские» поцелуи, звонкие и смачные, которыми она щедро одаривала всех нас. Джозефу очень хотелось похвастаться перед тещей, а ведь было чем, труда в наше трио было вложено немало. Сюрприз, который последовал за одним таким показом, удивил всех.
Мы выстроились в ряд перед нашими зрительницами: Мамой, Бабушкой Мартой, Риби и Ла Тойей (двухлетний Рэнди тоже крутился неподалеку), готовые выступить и заслужить одобрение отца. Майкл, как обычно, сидел на полу вместе со своим бонго. Мы начали петь вступление к песне, названия которой я уже не помню, девочки захлопали в ладоши в такт музыке, и тут встал Майкл. Затем, видимо, почувствовав структуру песни, он запел. Он вступил со своей партией! Я отвлекся, махнул рукой, пытаясь заставить его замолчать. Он нам портил всю интригу. Джозеф остановил пластинку.
«Но он же не должен был петь», - запротестовал я.
«Оставь его в покое. Пусть мальчик поет. Ты хочешь спеть нам, Майкл?», - вступилась Бабушка Марта.
Глазки его зажглись. Мы отошли в сторону, позволяя младшенькому выступить и порадовать бабушку. Джозеф неохотно запустил пластинку заново. То, что и как пел Майкл, не могло сравниться с исполнением «Jingle Bells» в один из рожденственских вечеров. В десятки, нет, в сотни раз лучше. Его пригласили спеть, его выступления ждали. И Майкл показал то, на что он способен. Да, он стеснялся, но одновременно с этим он понимал, что делает: играл с микрофоном, отрывался в танце и прекрасно пел. «Черт возьми, как круто!», - подумали мы про себя.
Я не понимал, откуда взялся этот голос.
«С небес», - сказала Мама.
Выражение лица моего отца в этот момент дорогого стоило. Все время, которое провел брат, наблюдая за нами, он учился. И вот настал час, когда Талант проявил себя во всей красе.
Когда все зааплодировали, он почувствовал себя равным своим старшим братьям, а это – то, чего хочет каждый мальчишка в большой семье. Бабушка Марта и Мама кивнули друг другу, будто бы говоря :«Ну я-то всегда знала, в мальчишке что-то есть!». Не помню, сразу ли Джозеф задействовал его в группе, потому что Майкл все еще был мал: ему исполнилось пять лет 29-го августа. Но пару недель спустя он уже выступал перед зрителями на праздничном вечере в начальной школе Гарнетта. Для Майкла это был первый учебный семестр, и первая сцена – в сером, унылом здании.
Спортивный зал был заполнен деревянными складными стульями, и казалось, что люди со всей округи пришли на нас посмотреть. Я сидел вместе с Мамой и Папой Сэмюэлем, мы знали, что должен был выступать класс брата, и его попросили спеть соло. Важный день, это стало понятно по его одежде – сегодня на нем синяя сорочка, затегнутая на все пуговицы, и брюки, а не обычные футболка с джинсами. Песня, которую он выбрал, называлась «Climb Ev’ry Mountain» - из мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «The sound of Music» 1959-го года (один из его любимейших кинофильмов).
Не помню, чтобы Майкл как-то волновался по поводу предстоящего события или репетировал дома, что, вероятно, уже означало осознание им собственной силы и уверенности в своих действиях – картинка начала складываться у него в голове до выступления. Что-то, через что он будет проходить не раз в своей жизни.
Когда подошло время Майклу занять свое место, аккомпаниатор за фортепьяно кивнула, и брат выступил вперед. Мама сжала сумочку обеими руками, а я не совсем понимал, что мне делать: провалиться сквозь землю от стыда или громко заявить, что он мне не чужой.
Не стоило мне так волноваться. Он все сделал верно – так, как учил нас отец. А потом наступил момент, от которого ахнули все зрители - он взял высокую ноту. Голос его звенел и переливался... Может, сам Господь спустился с небес и сказал ему: «Мальчик, награждаю тебя голосом, которого нет ни у кого в этом мире. Используй свой шанс!»
Майкл уверенно двигался на сцене. В отличии от большинства детей он ВЕЛ партию, сам, не следуя за педагогом. Это она следовала за НИМ. Люди аплодировали ему стоя. Даже преподаватель поднялась и захлопала в ладоши.
«Это мой брат!», - подумал я.
Мама плакала. Пробрало даже Папу Сэмюэля. «Черт побери, Майкл, ты заставил плакать Папу Сэмюэля!»
Думаю, что, начиная с этого момента, наблюдая за реакцией зала, Майкл начал видеть себя в качестве артиста. Ведь это ЕМУ рукоплескали зрители, это ОН заставил всех этих людей подняться на ноги.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |
| ната | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:08 | Сообщение # 10 |

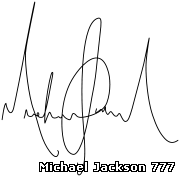
Новосибирск
| Наша группа увеличилась. Теперь нас стало пятеро, включая Марлона, не потому, что в нем было что-то особенное, а по настоянию Мамы - она не хотела, чтобы он чувствовал себя обделенным. «Он будет очень расстраиваться, Джо, дай возможность мальчику попробовать», - говорила она. В течение многих лет мне попадались заметки в прессе - писали, будто я «завидовал Майклу», «ревновал», но это неправда, потому что завидовать было нечему. Мы были всего лишь группой, без имени, с одним лишь энтузиазмом, без известности. Да мы даже пределов гостиной не покидали. Лежали в кроватях, мечтая о времени, когда станем звездами. Но теперь утренняя распевка стала для нас не просто обычным упражнением. Вылезая из кроватей, мы заводили песни, один за другим, и, не осознавая, пели уже в три голоса.
Ноты, которые я не мог брать. Их брал Майкл. С легкостью, будто птичка. Внезапно находились октавы, о существовании которых я даже не подозревал. Отец был изумлен. Можно было сказать, что он рассматривал Майкла как бонус в своей игре. Чего же нам не хватало? Верного названия.
Я всегда задавался вопросом: сколько же имен перебрали мои родители, прежде чем остановиться на тех, которые, в итоге, стали нашими. Хотя, какая разница, все равно «Зигмунд Эско» сократился до «мальчишки Джексона» (от Папы Сэмюэля), а потом и до «Джеки». «Тариано Адарил» стал «Тито», да просто потому, что так было удобнее. А экзотичное «Джермейн Ла Жуан» или «Майкл Джо»? Уже не помню, откуда (а после смерти Майкла особенно) взялся слух о том, что его вторым именем было «Джозеф». Был ли связан этот слух с кофликтом отца и сына? В свидетельстве рождения Майкла четко указано: «Джо». Его бы звали Рональдом, так пожелала бабушка, но Маме ее предложение пришлось не по вкусу. Не думаю, что выбор имени «Рональд» оказался бы, в итоге, выигрышным.
Майкл был седьмым ребенком, в его имени – семь букв, так что, вполне естественно, что «семь» стало и его любимым числом. «777». Вот он, джекпот. Счастливое число «семь». Число, которое в Библии появляется всего лишь раз. Многое можно было бы рассказать об этой цифре, о ее толкованиях, об историях, которые ее окружают, о воспоминаниях. Одно можно сказать точно: цифра «семь» играла важнейшую роль в его понимании собственного «я». Он носил куртки с семерками на рукавах. Листки бумаги пестрели семерками. Мир не знает о скетчах, сделанных карандашом, на которых он изображал высокие, похожие на троны, стулья с выгравированным числом «семь» на дубовых рамах с витиеватой росписью.
В поисках верного названия мы проведем многие годы, размышляя над песнями, альбомами, даже над вариантами имен собственных детей. Что же будет отражено в различных биографиях – что первым названием группы могло стать The Ripples and The Waves («Рябь и Волны» - прим. перевод.)? Удивительно, но слух этот активно распространялся и появился даже в печати. Без сомнения, причиной тому послужил сингл «Let Me Carry Your Schoolbooks», который был выпущен The Ripples and The Waves + Michael на лэйбле Steeltown Records (он-то и станет вскоре нашей первой звукозаписывающей компанией). Мне кажется, что использование имени «Майкл» послужило нам своеобразным маркетинговым ходом и дополнительным преимуществом. Но тот Майкл был Майклом Роджерсом, а The Ripples and The Waves – совсем другой группой.
На самом же деле первое название было куда хуже. Одна знакомая леди предложила что-то вычурное вроде «El Dorados». Мы чуть не угодили в ловушку - звучали бы как какой-то чертов кадиллак. Нам повезло, выяснилось, что так уже называлась другая группа из Чикаго. Джозеф же хотел обыграть фамилию «Джексон». Родители обговаривали вариант «The Jackson Brothers 5», и уже вроде сошлись на нем, пока Мама не повстречала одну даму, жившую неподалеку. Звали ее Эвелин Лахэ: «А по мне так – перебор. Почему бы просто не оставить Jackson 5?» Миссис Лахэ заведовала «Школой хороших манер миссис Эвелин» - для девочек, и, казалось, кое-что смыслила в имидже. Так и появились Jackson 5. По крайней мере, на бумаге.
По соседству с нами жил парнишка, Джонни Рэй Нельсон, наблюдать за ним было весело: бывало, его братец Рой частенько гонялся за ним с длинной палкой в руках. Джонни удирал и смеялся, а Рой клялся, что вот-вот его достанет. Когда же они, наконец, уставали и воцарялась тишина, он подслушивал у открытых окон - раздавалось наше пение. Как-то Джонни даже сказал, что умение гармонизировать мелодию в таком юном возрасте его покорило.
Хитрый Джонни однажды попросил Майкла исполнить ему песню, за что пообещал брату печенья. Вслед за Майклом подтянулись и мы четверо, выстроились в ряд и заголосили – за тарелку с печеньем.
В период между 1962-ым годом и до лета 1965-го года Джозеф работал, оттачивая наше мастерство. Репетировали мы по понедельникам, средами и пятницам – с 4.30-ти, после школы, до семи, иногда до девяти часов вечера.
В начале шестидесятых нашими кумирами становятся The Temptations. По мнению Джозефа, сочный хриплый вокал Дэйва Раффина, его подача – такой была наша планка. Но этого ему не хватало. Превзойти – вот к чему надо стремиться. Величие The Temptations - всего лишь начало. «По всей Америке колесят группы, мечтающие о славе The Temptations, - говорил он. - Вы не станете одними из многих, вы станете лучшими!»
Он наглядно показывал цель, размахивая руками в районе поясницы. «Не здесь! НЕ здесь! Выше, больше!»... (он жестикулирует, два фута над головой) «Не останавливайтесь! Зрители скажут, что ребята ничего, неплохо выступили. Нет! Эмоции, эмоции, необходимо выступать так, чтобы все ахнули: «Ух ты, что это было??». Это вы их контролируете. Они – в вашем мире. Продавайте лирику. Заставьте их подняться на ноги и вопить от восторга».
Пятеро мальчишек, не достигших возраста тинейджеров, внимали отцу, пытаясь представить себе, как можно заставить вопить целый зал.
Когда Бабушка Марта мыла посуду, она выжимала полотенце до последней капли. Если кто-нибудь ставил это под сомнение, она могла с легкостью доказать свою правоту. Джозеф работал с нами также. С каждым новым днем мастерство наше прогрессировало, мы понимали друг друга все лучше, работали слаженнее, раскрывались, а Майкл – особенно. Джозеф показывал, как скользить, падать на колени, мы же добавляли что-то от себя. Смотрели на то, как выворачивали душу на сцене Дэйв Раффин и Джеймс Браун.
Многие говорили, что Майкл вел себя на сцене так, что казалось, будто ему намного больше лет, чем на самом деле. В этом возрасте его называли (и называют) стариком в теле мальчика, умеющим передавать эмоции и чувства, которых сам еще понять не мог, не говоря уже о переживаниях. Предполагают даже, что он был вынужден взрослеть быстрее, чем обычные дети. Правда же намного проще: он всего лишь подражал взрослым. Натасканный Джозефом, преподавателем по актерскому мастерству, Майкл стал виртуозом по части подражания. Каждый раз, когда Джозеф командовал: «Надо передать боль, покажите, играйте так, чтоб я мог прочувствовать ситуацию....», Майкл падал на колени, хватался за сердце и .... Казалось, ему действительно было больно. «Нет. НЕТ!», - твердил критик, жесче которого у нас никогда не было. «Не верю. НЕ чувствую».
Майкл изучал выражения на лицах людей, эмоции, также дотошно, как он поступал и с профессиональной деятельностью. Спросить его, чем он занимается? Передразнивает отца: «Продаю лирику...». Его работа начала концентрироваться на умении выгодно себя подать, для этого он проигрывал записи Джеймса Брауна, разбивал их на части, изучая каждую. Или смотрел фильмы с участием Фрэда Астера, лежа на ковре в гостиной, подбродок подпирал ладошками.
Не делал зарисовок или заметок– смотрел, не отрываясь, и впитывал информацию как губка. Если по телевизору показывали Джеймса Брауна или Фрэда Астера, а Джозеф был на работе, Мама заходила в спальню (спал он или нет – неважно). «Майкл, - шептала она. - Показывают Джеймса Брауна».
Мир переставал существовать для него, когда он видел своих кумиров. Он их обожал.
У нас был черно-белый телевизор Zenith, качество приема которого зависело от железной вешалки, и мы старались «раскрасить» картинку, прикладывая к экрану один из прозрачных листов - они использовались в те далекие времена. Разные оттенки цвета на листе – синий (для неба), желтовато-бронзовый (преображались люди) , зеленый (для травы). Приходилось и воображать свое.
Тем же способом начал пользоваться и Майкл: смотрел и запоминал. Казалось, информация, которую он воспринимал, каким-то образом моментально преобразовывалась из просто увиденной (например, любой танцевальный элемент) - в реальную, будто его его мозг в ту же секунду давал команды телу. Смотрел, как работает Джеймс Браун – и становился Джеймсом Брауном в миниатюре. Он с самого начала двигался отточенно, будто танцевал не ребенок, а взрослый человек. Прирожденный талант. Он всегда понимал, что ему делать, где находиться.
Уверенность Майкла придавала уверенность и нам. Джозеф перетянул струны на гитаре, и я стал басистом. Как и Тито, я не читал ни одного нотного листа, и сейчас вряд ли прочту, но мне помогало умение слушать и быстро схватывать. Никто из нас не знал нот или аккордов. Ноты на бумаге (письменная инструкция) не передают чувств. Душа – вот откуда берется музыкальный слух. Возьмите Стиви Уандера – его слепота доказывает, что все дело в душе.
Мы с Майклом чередовались, оба исполняли ведущие партии, но, в основном, он был фронтменом группы. Мы выстраивались в гостиной так, как выстраивались бы на сцене. Я стоял слева, потом, справа от меня, Майкл, потом Джеки (самый высокий), Марлон (он был одинакового роста с Майклом), и Тито с гитарой. Таким образом, мы образовывали симметрию, будто пять полосок на эквалайзере.
Мы были не единственной группой в Гэри, которая мечтала о возможности поработать в разных местах, рядом в Чикаго активно развивалась соул-музыка. Одновременно с нами появилось несколько квартетов, все с поставленной хореаграфией. Но в нас было что-то особенное, и это понимал не только Джозеф, но и мы сами. Нас связывали кровные узы, а, значит, и синхронность и родство – то, чего не было у других коллективов. Эта общность и была нашим коньком, и я сомневаюсь, что у кого-нибудь еще в Америке имелся такой педагог, как у нас, страстно влюбленный в свое дело. Мы не боялись ошибок, потому что Джозеф научил нас представлять себе успех и верить в него: думай, представляй, верь, претворяй в жизнь. Как заметил Майкл в интервью Ebony в 2007-ом году: «Мой отец был гениальным преподавателем: он научил нас работать со зрителем, представлять себе порядок работы, не показывать своей боли, скрывать проблемы. В этом плане он был потрясающий».
Однажды Джозеф заставил нас встать напротив стены с вытянутыми руками. Наши пальцы почти касались стены. «Дотроньтесь», - сказал Джозеф. « Каким образом? Пальцы не достают...Невозможно», - ныли мы.
«Вбейте себе в голову: вы МОЖЕТЕ дотронуться до стены!» - настаивал он. Вот и еще один урок психологической подготовки: разум сильнее тела. «Поверьте в это», - сказал он. – Думаете, достигли своего предела? Нет, еще есть куда стремиться. Представьте себе, как вы до нее дотрагиваетесь». Майкл вставал на носочки, пытаясь нас перещеголять. Мы хихикали, он был самым маленьким, но уже хотел быть первым.
Если Джозеф и сомневался когда-нибудь в собственном влиянии на карьеру Майкла, то, взгляни он на стену в Хэйвенхерсте в 1981-ом году, сомнение это у него бы исчезло. Майкл повесил доску голубого цвета со словами: «Тот, кто стремится, дотрагивается до звезд».
Мы с нетерпением ждали Маминого возвращения с работы; с таким же нетерпением не могли дождаться, когда уйдет Джозеф, а Риби особенно– тогда она могла спать в настоящей кровати, с Мамой, а не на раскладном диване. Мы же отрывались и бесились, дурачились, выходили поиграть на улицу. Обычно наше детство связывают с ремнем Джозефа и расписанием репетиций, и, действительно, обстоятельства вокруг нас способствовали росту артистов, а не мальчишек. Но, вспоминая о жесткой дисциплине и инструктаже, я думаю и о веселье, слышу радостный смех. Рядом с нами всегда кто-то болтался, веселился, и эти воспоминания не известны общественности. Любой, кто был рожден в большой семье, скажет вам, что все помнят одни и те же события по-разному.
Пока Джозеф работал, Мама проверяла, не отстаем ли мы от расписания. «Песню выучили? А шаги?», - спрашивала она. Мама была «глазами и ушами» нашего отца, но позволяла играть и веселиться.
Мы разъезжали на велосипедах (их мастерил Тито из старых рам и колес), на картах, катались на каруселях и на роликах (купленных в сэконд-хэнде, они крепились к сникерсам). Нам не терпелось выйти из дома и пробежаться по Джексон-стрит. «Не дальше дома мистера Пинсена!» Мистер Пинсен был нашим тренером по баскетболу и жил через десять домов от нас.
Мы наслаждались семейными вылазками на природу, на Висконсил Деллс, где рыбачили с Джозефом, и где он учил нас с Тито и Джеки ловле на живца. Останавливались всегда рядом со старыми индейскими деревушками, ходили тропами предков. Мы знали, что в наших венах течет кровь коренных американцев, племен Чоктау и Блэкфут. От них мы унаследовали высокие скулы, светлый цвет кожи и грудь без волосяного покрова.
"Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины." Ив Сен-Лоран
|
| |
| |

|



